Под горой Гедимина, стр. 17
Голос Онуте окреп, она читала всё громче и громче. Глаза у неё заблестели, бледное лицо покрылось румянцем.
Миша кинулся к ней, захлопал в ладоши:
— Молодец, Онуте, молодчина! Прямо как артистка. Вот это самое ты и будешь читать в воскресенье, в госпитале.
Онуте сразу побледнела:
— Где?
— В госпитале… Для раненых. Она покачала головой:
— Ни! Не буду!
Миша растерялся:
— Как — не буду? Почему — не буду? Нет, будешь, будешь! Папа просил. Сначала я буду, а потом ты, мы вместе…
Но Онуте упрямо повторяла:
— Ни, не буду. Я стесняюся.
Миша рассердился:
— Нет, будешь! Я в Москве сколько раз выступал.
— Так то в Москве. Кабы я из Москвы была…
Миша потерял терпение и махнул рукой:
— Всё равно. До воскресенья я тебя ещё уговорю. Я и папе скажу, что ты будешь, так и знай.
Он вышел из полутёмной сторожки и направился во флигелёк.
Глава двенадцатая
В ЧЕТВЁРТОЙ ПАЛАТЕ
Напрасно Миша торопился. Папы дома не было. Папа, конечно, опять ушёл к себе в госпиталь.
Вчера вечером, когда звонил телефон, его вызвали действительно по важному делу.
В госпиталь прибыла новая партия раненых, больных и контуженных. Ио это не были бойцы, раненные на поле боя. Этих людей Красная Армия только что освободила из концлагеря.
Такие лагери — лагери смерти — фашисты устраивали почти в каждом городе. В них за колючей проволокой томились и гибли десятки тысяч человек. Иной раз Красная Армия, входя в город, заставала за колючей проволокой лагеря измученных, обессиленных, но ещё живых людей.
Они были очень слабы. Лёжа на земле, они чуть заметными взмахами рук, блеском ввалившихся глаз, немощным шёпотом выражали свою радость.
Этих людей надо было немедленно лечить, выхаживать, возвращать к жизни. Почти всех приходилось направлять в госпитали. И вот в вильнюсский госпиталь тоже прибыла такая группа только что освобождённых из концлагеря.
Они были в очень плохом состоянии — измождённые, слабые, все в шрамах, в струпьях. Одни от голода и побоев распухли, другие высохли и стали точно скелеты. Начальник госпиталя уж на что был привычный, видавший виды человек — и то ему становилось не по себе, когда он смотрел на этих чудом уцелевших людей.
Он обходил палаты и проверял, как разместили вновь принятых, удобно ли им, не тесно ли. За ним следом, как всегда, шла медсестра Шурочка.
В четвёртой, лежачей палате, в углу у окна, под марлевой занавеской лежал один из новых больных. Голова его была аккуратно перевязана чистым бинтом. Длинные, костлявые руки вытянулись вдоль одеяла. Худые, тёмные пальцы чуть шевелились.
Начальник подошёл к нему:
— Как себя чувствуете?
Больной молчал. Глаза его были закрыты. Острые скулы обтягивала сухая, жёлтая кожа. Под одним глазом заметно билась жилка, и тонкая светлая бровь всё время подёргивалась.
Начальник повторил:
— Что у вас болит?
Больной не отвечал. Потом он с трудом приподнял руку и показал на забинтованную голову.
— Так! — Начальник пригнулся к койке, взял больного за руку и стал нащупывать пульс. — Как вас зовут?
Больной всё молчал. Только слышно было, как он тяжело, прерывисто дышит.
— Вы меня слышите? — спросил начальник.
Больной приоткрыл глубоко запавшие светло-голубые глаза и моргнул, показывая, что слышит.
— Отлично! — сказал начальник. — Тогда скажите мне, пожалуйста, как ваша фамилия?
Больной долго молчал и как будто даже не собирался отвечать. Начальник терпеливо стоял возле его койки, по-прежнему держа больного за руку. Шурочка оглянулась, принесла стул и сказала:
— Садитесь, товарищ начальник.
— Спасибо! — ответил начальник, но не сел. Наконец бледные, сухие губы больного слегка разжались. Он сначала немного помычал, потом невнятно выговорил:
— Нннне… ннне… — и затих.
Начальник подбодрил его:
— Ничего. Потом всё вспомните, ничего. Может быть, вы мне имя своё скажете? Постарайтесь, пожалуйста.
Больной снова открыл глаза. Пальцы его зашевелились быстрей. Он еле-еле приподнял тяжёлую, обмотанную бинтом голову и с усилием произнёс:
— Ннне… ннне… — и опять уронил голову на подушку.
На соседней койке лежал пожилой красноармеец с бритой головой. Он вынул из-за пазухи градусник, протянул сестре и сказал:
— Возьми, Шурочка! — И кивнул головой на больного: — Беспамятный он, товарищ начальник. Как привезли, так и молчит. Контуженный.
Начальник обернулся к сестре:
— Шурочка, а где же сопроводительная карточка на этого больного?
Шурочка побежала в коридор к дежурной и вернулась с кусочком картона.
Начальник взял карточку. На сером картоне в клеточках «имя, отчество, фамилия» было чернильным карандашом написано: «Неизвестно».
— Так! — сказал начальник, возвращая сестре карточку. — Возьмите. Завтра утром доложите мне о состоянии больного.
Начальник продолжал обход.
На дворе уже светало, когда он пошёл к себе во флигелёк отдохнуть.
Отдыхал он недолго. Рано утром он снова пришёл в госпиталь и вызвал к себе в кабинет Шурочку:
— Как себя чувствует больной из четвёртой? Память не вернулась к нему?
— Нет, товарищ начальник. Молчит!
— Но ведь мы, сестра, обязаны знать, кого мы лечим. — Он постучал пальцами по белому столу, потёр усталые, сонные глаза. — Скажите, а списки освобождённых были нам переданы?
— Сейчас узнаю в приёмном покое, товарищ начальник.
Шурочка вышла. Начальник опустил голову на стол и задремал. Но как только за дверью послышались лёгкие шаги Шурочку он очнулся, поднял голову:
— Ну, как?
— Вот, товарищ начальник.
Шурочка подала начальнику толстую прошнурованную тетрадь. На переплёте было по-немецки написано: «Лагерь Ост № 120».
Начальник раскрыл её. На разлинованных страницах были аккуратно по-немецки перечислены имена, фамилии, род занятий…
— Вы, Шурочка, идите к больным, я займусь сам, — сказал начальник.
Он взял толстую тетрадь, обошёл с ней все палаты, опросил всех вновь принятых больных, потом вернулся к себе и опять вызвал Шурочку:
— Заполните карточку на больного из четвёртой.
Шурочка села за стол, взяла перо. Начальник стал диктовать:
— «Место рождения: Вильнюс… Профессия: рабочий… Партийность: коммунист… Национальность: литовец… Имя: Миколас… Фамилия: Петраускас».
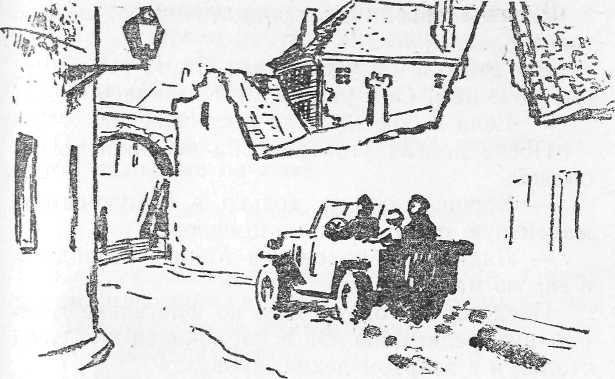
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
«КОМНАТА СКАЗОК»
Глава первая
ТЕЛЕГРАММА
Прошло несколько дней.
Начальника всё ещё тревожил больной из четвёртой палаты. Больной по-прежнему лежал неподвижно, устремив светло-голубые глаза в потолок и не произнося ни слова. В его истории болезни стояло одно коротенькое словечко: «шок».
…Наступило воскресенье. В Мишиной красной книжечке было записано:
«Воскресенье, пять тридцать — выступать в госпитале».
Все эти дни он уговаривал Онуте выступить вместе с ним. Она упорно отказывалась:
— Если я боюсь? Если я стесняюся? После долгих уговоров она всё-таки согласилась:
— Хорошо, пойду, только в самую-самую маленькую палату, где мало человек.
— Ладно! — обрадовался Миша. — Пойдёшь в самую маленькую.
После обеда он устроил во флигельке генеральную репетицию. Он вскарабкался на белый столик и с азартом декламировал:
Он решил прочитать бойцам «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» — те самые стихи Маяковского, о которых папа писал ему когда-то в новогоднем письме.
Онуте с восхищением смотрела снизу вверх на отчаянно оравшего Мишу. Вот он кончил кричать и спрыгнул со стола:
