Материнское поле, стр. 21
Потянулись трудные дни, роды приближались, и тут уж я не спускала глаз с Алиман. Она во двор — и я за ней. Ни на шаг не отставала. Боялась, как бы не упустить схватки. А не то стала бы я разве надоедать ей?
А однажды смотрю — оделась она тепло, платком укуталась.
— Ты куда, — говорю, — доченька?
— На реку пойду, — ответила она.
— Не ходила бы ты, что там делать, на реке, в такую сырость? Посиди лучше дома.
— Нет, пойду.
— Ну, тогда и я пойду. Одну тебя не отпущу, — сказала я.
А она так глянула на меня — и все, что наболело у нее на душе за эти дни, всю свою злобу сорвала на мне.
— Да что ты привязалась ко мне? Чего тебе надо от меня? Что ты ходишь по пятам, как тень? Оставь меня в покое. Думаешь, подохну я, что ли, не подохну! — Хлопнула дверью и ушла.
Будто по сердцу моему хлопнула она дверью. Очень обиделась я. И, однако, не усидела, опять же вышла на задворье глянуть, где Алиман. Не видно было ее, ушла она в поймище.
Дождь моросил мелкий-мелкий, почти невидимый, будто холодным паром обдавало. Ветер таскал за космы седые тучи. В саду было неуютно. Деревья стояли голые, озябшие, с мокрыми, потемневшими ветвями. Народ весь сидел по домам. Безлюдно кругом. За дымной мглой вдали едва угадывались гребни темного хребта.
Подождала я немного и потом пошла следом: пусть как хочет ругает меня, но хуже будет, если ляжет где-нибудь в сырости, когда начнутся схватки. Выйдя на тропу за огородом, я увидела Алиман. Она возвращалась. Шла медленно, едва передвигая ноги и понуро опустив голову. Поспешив домой, я поставила чай, быстренько наделала оладий на сметане и яйцах. Потом расстелила на кошме чистую скатерть и принесла яблок-зимовок, выбрала самые красные. Алиман вошла и, увидев скатерть, молча грустно улыбнулась мне.
— Замерзла, доченька? Садись, чай попей, покушай оладий, — сказала я ей.
— Нет, ничего мне не хочется кушать, мама. Дай вот одно яблоко. Попробую, — ответила она.
— Может, у тебя где болит, Алиман, ты скажи мне, — стала допытываться я.
Но она опять сказала:
— Не спрашивай меня, мама. Я какая-то сама не своя. Ненавижу себя. И тебя обругала ни за что. Лучше оставь меня в покое. — И махнула рукой.
Наступила ночь, и, укладываясь спать, я с обидой думала, что теперь Алиман не нравится все, что бы я ей ни сказала, и с этой обидой уснула. Обычно я часто просыпалась по ночам, поглядывала, как там Алиман, а тут сон придавил меня, словно камнем. Если бы я знала, разве сомкнула бы я глаза — да десять ночей подряд не прислонила бы голову к стене…
Не помню, когда и отчего я вдруг проснулась. Глянула — а Алиман нет на месте. Спросонья-то не сразу сообразишь. Подумала сначала, что вышла на двор. Подождала немного. Нет, не слышно. Потом потрогала постель Алиман. Постель холодная, и у меня сердце похолодело: давно уже она встала! Кое-как оделась и выскочила во двор. Обошла все углы, сбегала на огород, выскочила на улицу. Стала звать ее: «Алиман! Алиман!» — не отзывалась. Только собаки всполошились, залаяли по дворам. Муторно стало мне: значит, ушла! Куда же она ушла в такую темную ночь? Что делать теперь? Может, догоню? Бросилась снова в дом, фонарь засветила и с фонарем в руках пошла искать. Но, выходя из дверей, услышала, будто застонал кто и вскрикнул в сарае. Кинулась через двор, рванула двери сарая — и фонарь чуть не выронила из рук, застыла, не веря своим глазам: Алиман лежала на соломе навзничь. Рожала. Металась в горячке.
— Да что же ты это? Почему не сказала? — закричала я и бросилась к ней.
Хотела помочь, стала приподнимать ее и содрогнулась, когда на руку мне навернулся пропитанный кровью подол платья. Алиман горела, как огонь. Она тяжело и с хрипом выдыхала:
— Умираю… Умираю…
Видно, давно уже она маялась.
— Упаси боже! Упаси боже! — взмолилась я, поняв, что ей самой не разродиться, что спасти ее может только доктор.
Я оставила ее и побежала к Айше, заколотила в окна изо всех сил:
— Вставайте, вставайте быстрей! Бекташ, запрягай бричку. Плохо с Алиман! Быстрей, милый, плохо с ней!
Разбудила их, прибежала назад, дала Алиман воды. Зубы ее стучали по кружке, било ее как в лихорадке, кое-как сделала она два глотка и снова скрутилась, заохала. Тут подоспела Айша, запыхалась, на ногах едва держится, больная ведь лежала. Как увидела, что с Алиман, — с лица сошла, запричитала:
— Алиман, милая, да что ж это такое? Алиман, деточка моя! Не бойся. В больницу повезем!
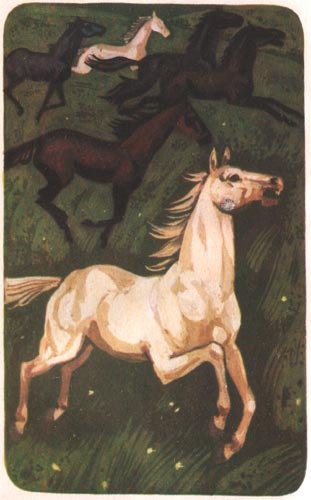
К счастью, Бекташ в тот день вернулся домой поздно и потому лошадей не отвел на конюшню, а поставил у себя под навесом. Он быстро пригнал бричку во двор. Мы набросали в нее сена, постель постелили, подушки подложили и втроем кое-как вынесли Алиман из сарая, положили в бричку. И тут же, не медля, поехали в больницу.
Ах, эта разбитая осенняя дорога, ах, эта темная проклятая ночь… Больница была тогда только в Заречье, а мост через реку в объезд далеко внизу.
Как только мы выехали из аила, у Алиман снова начались схватки, она закричала, стала сбрасывать с себя все. Я держала ее голову у себя на коленях. То и дело укрывала одеялом, то и дело подносила к лицу фонарь — все смотрела ей в глаза, успокаивала. И Бекташ успокаивал:
— Потерпи, Алиман. Скоро приедем. Вот увидишь, сейчас приедем. До моста уже рукой подать.
До моста еще было кто его знает сколько. Погнать бы лошадей вскачь, да никак нельзя — растрясет Алиман. А тут дождь припустил сильнее. Все будто сошлось одно к одному — тьма непроглядная, холодный дождь, грязь да ухабы. Алиман билась в судорогах, стонала, кричала и вдруг как-то сразу затихла, захрипела.
— Алиман! Алиман! Что с тобой? — всполошилась я, обняла ее, посветила фонарем. На меня глядели ее горящие глаза.
— Остановитесь! Умираю я! Остановитесь! — проговорила она черными, запекшимися губами и стала задыхаться.
Мы остановили бричку.
— Подними мне голову выше, — попросила она. — Воздуху не хватает. — И заплакала. И, торопясь, глотая слезы, стала говорить: — Мама, родненькая… Горит у меня все внутри, сил нет… Умираю я… Спасибо тебе за все, мама. Прости меня… Если бы Касым был жив. О-ой, Касым, умираю я… Прости меня…
Я взмолилась перед ней:
— Нет, доченька, не умрешь ты. Потерпи, потерпи, родная. Вот уже до моста недалеко. Слышишь, не умрешь ты!
Ее снова скрутило. Стиснув зубы и теряя сознание, сна забилась из последних сил.
— Бекташ, — приказала я. — Бери ее под руки, поднимай! Быстрей! Да не стыдись ты, ради бога!
Бекташ поднимал Алиман, а я старалась помочь ребенку. Потом Бекташ заплакал навзрыд, и тут снова вдруг вспомнился мне грохот эшелона, и пошли, пошли стучать в ушах колеса; ветер донес крик: «Мама-а! Алима-ан!» И сейчас же раздался крик новорожденного. О жизнь, почему ты так жестока, почему ты так слепа! Ребенок родился, а Алиман умирала. Я успела только завернуть в подол мокрое, голое тельце, глянула, а она, мать Алиман, уже безжизненно висела на руках Бекташа. Голова откинулась набок, руки болтались как плети.
— Алиман! — вскрикнула я не своим голосом и схватила ее руку; пульс пропадал.
В одно мгновение на глазах у меня столкнулись жизнь и смерть!
Когда мы повернули назад, рассвет уже занимался. В сумеречном свете кружились крупные белые снежинки. Они мягко опускались на дорогу. Вокруг была тишина — ни звука, во всем мире была белая тишина. И в этой белой тиши бесшумно тащились усталые лошади с белыми гривами и белыми хвостами, беззвучно рыдал Бекташ, сидя на бричке. Он не погонял лошадей, лошади сами шли. Он всю дорогу плакал. А я шла рядом по обочине дороги, укрыв ребенка под чапан у себя на груди, и белый снег на земле казался мне черным.
16
Вот так война в последний раз напомнила о себе. Дорога, по которой я шла в то утро, была самой трудной дорогой в моей жизни, и мне казалось, что лучше умереть, чем так жить… А младенец, пригревшийся у меня на руках, пошевеливался теплым, мяконьким комочком и не переставал плакать. Несла его и говорила: «Какой же ты несчастный родился, с первым криком своим распрощался с матерью». И вдруг откуда-то издалека донеслась мысль: «А ведь жизнь не совсем погибла, остался росточек». Но тут же подумала: «Да какой же он жилец, если не попробовал даже материнского молока. Нет, надолго не хватит его». Но так хотелось, чтобы ребенок остался жив, что я взмолилась судьбе: «Ну, оставь в живых хоть этого! Не дай ему умереть. Может, выживет! Может, выкарабкается как-нибудь?» Вот так и шла, отчаивалась, надеялась и снова отчаивалась, и незаметно наступило утро, когда мы добрались до аила.
