Три мастера. Триумф и трагедия Эразма Роттердамского, стр. 1
Стефан Цвейг
ТРИ МАСТЕРА
ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ ЭРАЗМА РОТТЕРДАМСКОГО
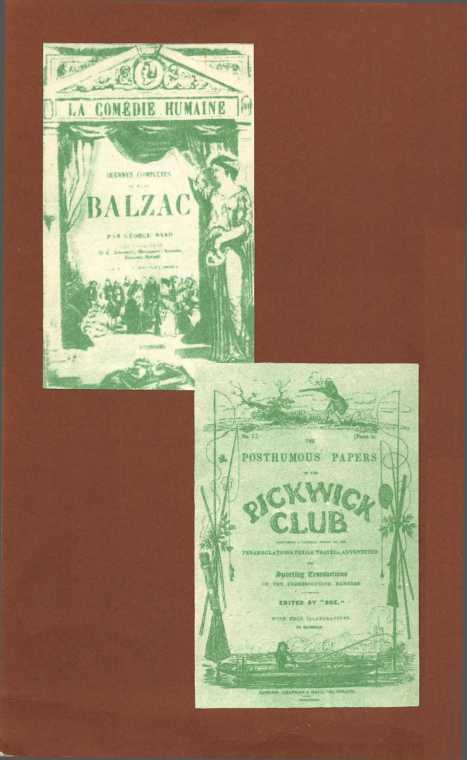
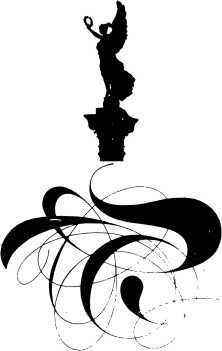

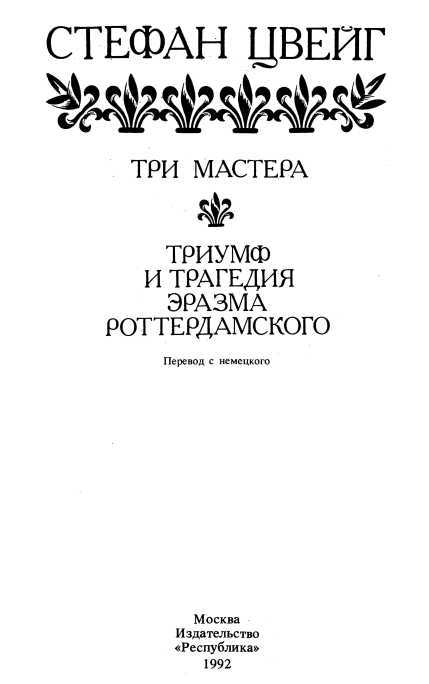

ТРИ МАСТЕРА

БАЛЬЗАК
Бальзак родился в 1799 году в Турени, в краю изобилия, на веселой родине Рабле. В июне 1799 года — этот год заслуживает повторного упоминания. В этом роду Наполеон — мир, уже встревоженный его подвигами, называл его еще Бонапартом — вернулся из Египта наполовину победителем, наполовину беглецом. Он сражался там под чужими созвездиями, перед каменными свидетелями — пирамидами, а затем, утомившись, не довершив грандиозно начатого дела, в маленьком суденышке проскользнул мимо стороживших его корветов Нельсона и, собрав через несколько дней после своего возвращения горсть преданных сторонников, разогнал сопротивлявшийся Конвент [1] и одним рывком захватил власть над Францией. 1799 год — год рождения Бальзака — был годом начала Империи. Новое столетие уже не знает «маленького генерала», не знает корсиканского авантюриста, оно знает только Наполеона — императора Франции. Проходит еще десять, пятнадцать лет — годы детства и отрочества Бальзака, — и рвущиеся к власти руки охватывают половину Европы, а честолюбивые орлинокрылые мечты летят уже над всей землей с запада на восток. Для человека, столь жадно все воспринимающего, как Бальзак, не могло быть безразличным, что шестнадцать лет — годы его первого знакомства с окружающим миром — совпали с шестнадцатью годами Империи, с этой, вероятно, самой фантастической эпохой мировой истории.
Разве первые восприятия жизни и жизненное призвание не суть лишь внутренняя и внешняя сторона одного и того же явления? Никому не известный человек, прибывший с какого-то острова в синем Средиземном море, появился в Париже, не имея ни друзей, ни определенных занятий, ни имени, ни звания, и грубо схватил упущенные как раз в эту пору бразды правления, круто повернул, и взнуздал государственную власть; никому не известный одинокий чужак голыми руками захватил Париж, а затем и Францию, а затем и весь мир. Эту необычайную прихоть мировой истории юноша познавал не с печатных страниц, как неправдоподобное смешение сказаний и былей, а в живой непосредственности, впитывая ее всеми своими жадными чувствами; она проникала в его личную жизнь тысячами пестрых незабываемых событий, наполняя образами его еще нетронутый внутренний мир. Такой живой опыт необходимо должен был восприниматься как образ. Ребенком Бальзак, возможно, учился читать по строкам прокламаций, которые гордо и сурово, почти с римским пафосом возвещали о победах в далеких краях, и, вероятно, детский палец неуверенно двигался по карте, на которой Франция, подобно разливающейся реке, постепенно затопляла Европу, двигаясь вслед походным колоннам наполеоновских солдат — сегодня через Сен-Готард, завтра через Сьерра-Неваду, через реки Германии, через снега России, через море к Гибралтару, где англичане калеными ядрами сжигали французскую флотилию. Днем на улице с ним, наверно, играли солдаты, чьи лица бороздили следы казачьих сабель, а по ночам его, быть может, будили пушки, катившиеся в Австрию, чтобы крошить ледяной покров под копытами русской конницы у Аустерлица. Все стремления его юности должны были раствориться в звучании вдохновляющего имени, в одной мысли и в одном представлении — Наполеон. Перед большим садом, откуда начинается дорога из Парижа в мир, выросла триумфальная арка, на которой были высечены названия побежденных городов. Но каким страшным разочарованием должно было смениться ощущение победного господства, когда позже под этими гордыми сводами проходили иноземные войска. Все, что происходило вовне, в сотрясаемом бурями мире, врастало в сознание Бальзака живым опытом. Ему очень рано пришлось испытать великую переоценку ценностей, как духовных, так и материальных. Он видел, как уносились ветром, словно ненужные бумажки, сто- и тысячефранковые ассигнации с печатью Республики, выброшенные подобно макулатуре. На золотых монетах, скользивших через его руки, он видел то жирные щеки казненного короля, то якобинский колпак свободы, то римский профиль консула, то Наполеона в императорской мантии. В пору таких необычайных переворотов, когда мораль, деньги, земельная собственность, законы, порядок чинов и званий, все, что столетиями было незыблемо в твердых пределах, стало зыбким и вышло из берегов, — в эпоху таких небывалых перемен он неизбежно должен был рано осознать относительность всех ценностей. Мир вокруг бушевал как ураган, и когда смятенный взгляд старался обозреть его, искал над вздыбленными волнами путеводную звезду, образ, что был бы знамением этого мира, то во всех приливах и отливах событий возникал всегда он — единственный вершитель, от которого исходили тысячи потрясений и колебаний. Бальзак застал еще его — Наполеона. Видел, как он верхом проезжал на парад, а с ним те, кого создала его воля: мамелюк Рустан [2], Жозеф [3], которому он подарил Испанию, Мюрат, которого он сделал владетелем Сицилии, предатель Бернадот [4],— все те, для кого он чеканил короны, завоевывал королевства, кого возвысил из их ничтожного прошлого в свое сияющее настоящее. И в одно мгновение на сетчатке глаз Бальзака запечатлелось живое изображение, которое было ярче и величественнее всех исторических примеров: он видел великого завоевателя мира. А когда мальчик видит завоевателя мира, как не возникнуть желанию самому завоевать мир? В те же годы жили еще два завоевателя мира — один в Кенигсберге, философ, претворивший в своих мыслях сумятицу мира в ясное сознание, и второй в Веймаре [5], поэт, завладевший миром не менее державно, чем Наполеон со своими армиями. Но для Бальзака это еще долго оставалось непознаваемой далью. Он всегда стремился к обладанию целым, никогда не довольствовался единичным, частным, он жадно рвался к обладанию всей полнотой мира; это лихорадочное честолюбие пробудил в нем прежде всего пример Наполеона.
Его могучее стремление к обладанию миром не сразу нашло свой путь. Сперва Бальзак не может решиться избрать себе призвание. Родись он только двумя годами раньше, он восемнадцати лет вступил бы в войска Наполеона и, быть может, шел бы в атаку на высоты Бель-Альянса [6], в свисте английской картечи; но мировая история не любит повторений. После грозовой непогоды наполеоновской эпохи наступили теплые, мягкие, полные неги летние дни. При Людовике XVIII сабля стала декоративной шпагой, воин — придворным шаркуном, политик — присяжным болтуном. Теперь уже не из кулака великого действия, не из этого сумрачного рога изобилия, управляемого случаем, а из слабых женских рук сыпались почести и блага; общественную жизнь словно затянуло песком, она обмелела, и бурное волнение событий сменилось неподвижностью затхлого пруда. Уже нельзя было завоевывать мир оружием. Наполеон, все еще остававшийся образцом для одиночек, был устрашающим примером для большинства. Оставалось искусство — Бальзак начал писать. Но не так, как другие: не для того, чтобы добывать деньги, развлекать, заполнять книжные полки, быть предметом досужей болтовни; его манил не маршальский жезл литературы, а императорская корона. Он начинал в мансарде. Свои первые романы он подписывает чужим именем, словно пробуя силы. Это еще не война, а только военная игра, маневры, а не битва. Недовольный успехом, неудовлетворенный тем, что получалось, он отказывается от этого ремесла и три- четыре года посвящает другим занятиям. Работает писцом в конторе нотариуса, наблюдает, вбирает впечатления, проникает в глубины мира, а затем еще раз начинает все сначала. Но теперь он уже одержим могучей волей, устремленной на все в целом, он испытывает ту неистовую фанатическую жадность, которая, пренебрегая единичным, случайным, внешним, отдельными, разрозненными частностями, стремится охватить лишь то, что движется по большим орбитам, стремится услышать, как действуют самые тайные пружины изначальных страстей. Теперь его цель — выделить чистые элементы из варева явлений, сумму из сумятицы чисел, гармонию из хаоса звуков, добыть самую сущность, квинтэссенцию жизни, втиснуть весь мир в свою реторту и вновь воссоздать его уже en raccoursi [7]. Ничто не должно быть утрачено из этого многообразия, и для того, чтобы втиснуть бесконечность в нечто конечное, недостижимое в нечто доступное человеку, существует только один способ — уплотнение. Все его силы направлены на то, чтобы уплотнить, стиснуть явления, прогнать их сквозь сито, в котором осталось бы все несущественное, а просеялись только чистые, полноценные формы, чтобы затем уплотнить, спрессовать эти разрозненные единичные формы, сплавить их жаром своих рук, привести их необычайное многообразие в наглядную систему, подобно тому как Линней [8] создает единый сжатый обзор миллиардов растений или химик разлагает бесчисленное множество сложных веществ на несколько десятков элементов. В этом теперь цель его честолюбия. Он упрощает мир, чтобы овладеть им, и затем втискивает покоренный мир в грандиозное узилище «Человеческой комедии». Вследствие этого процесса дистилляции его персонажи всегда типичны, всегда характерны обобщения неких множеств, из которых необычная воля художника отсеяла все избыточное, все несущественное. Он добивается уплотнения, вводя в литературу систему административной централизации. Подобно Наполеону, он заставляет весь мир двигаться по орбите Франции, центр которой — Париж. И внутри этой орбиты, в самом Париже, он размечает множество кругов: аристократия, духовенство, рабочие, поэты, писатели, художники, ученые. Из шестидесяти аристократических салонов он создает один — герцогини де Кадиньян. Из сотен банкиров он создает одного — барона Нусингена. Из всех ростовщиков — Гобсека, из всех врачей — Ораса Бьяншона. Он поселяет этих людей поближе друг к другу, заставляет их все чаще соприкасаться, яростней бороться друг против друга. Там, где жизнь создает тысячи видов игры, он находит один. У него нет усложненных промежуточных образов. Его мир беднее, чем действительность, но зато он напряженней, потому что его герои — это экстракты, их страсти — чистые элементы, а трагедии — это сгущения. Так же как и Наполеон, он начал с завоевания Парижа. Потом он захватывает провинцию за провинцией — каждый департамент направляет, так сказать, своих представителей в парламент Бальзака. А затем он, подобно победоносному консулу Бонапарту, двинул свои войска во все страны. Он устремляется все дальше, посылая своих героев в фиорды Норвегии, в сожженные солнцем песчаные долины Испании, под огненное небо Египта, на обледеневший мост через Березину, — всюду проникает его воля к овладению миром, простираясь дальше, чем воля того, кто стал его великим примером. И подобно тому как Наполеон в перерыве между двумя походами создал «Гражданский кодекс», так и Бальзак, отдыхая от завоевания мира, создал в «Человеческой комедии» свой нравственный кодекс любви и брака, принципиальный обобщающий трактат, и к тому же еще с улыбкой вписал в обрисовывающие весь мир контуры своего великого творения дерзостные арабески «Озорных сказок». От глубочайшей нищеты, из крестьянских хижин он переходит в дворцы Сен-Жерменского предместья, забирается в апартаменты Наполеона, и везде он срывает четвертую стену, разоблачая тайны запертых жилищ. Он отдыхает в солдатских палатках в Бретани, играет на бирже, заглядывает за кулисы театров, следит за работой ученых. В мире нет уголка, которого не осветило бы его волшебное пламя. От двух до трех тысяч человек составляют его армию, и воистину он, колдуя, вызвал ее из-под земли, она выросла у него на ладони. Все герои вышли из небытия нагими, и он одевает их, наделяет их званиями и состоянием, так же как Наполеон наделял своих маршалов, потом он снова отнимает у них свои дары, играет ими, сталкивает и стравливает их между собой. Неисчислимо многообразие событий, неизмеримы пространства, где разыгрываются эти события. Беспримерно во всей современной литературе, как беспримерен в новой истории Наполеон, это завоевание мира в «Человеческой комедии», эта сжатость, сосредоточенность всей человеческой жизни, всего мира, уместившегося в одних руках. Но такова уже была мечта юноши Бальзака — завоевать мир. Ничто не может быть величавее, чем осуществление так рано возникшего замысла. Не напрасно написал он под портретом Наполеона: «То, чего он не достиг мечом, я довершу пером».
