Деревянные актёры, стр. 20
– Грех, большой грех, – говорила хозяйка, указывая на Нинетту. – Падре простил Пеппо за то, что Пеппо боднул его в живот, но если вы останетесь в доме, падре наложит на нас проклятие и запретит нам ходить в церковь.
Я только свистнул. Хозяйка плакала, не зная, будет ли это грехом, если она даст нам пирог на дорогу. Наконец её доброе сердце победило, и она дала нам поужинать. Мало того, она вынула из сундука полоску материи, чтобы мы могли починять ширмы.
Я взвалил на плечи обломки ширм, а Паскуале перекинул через плечо мешки с куклами. В деревне мы не встретили ни души, но из всех окошек, из щелей заборов выглядывали ребята, провожая нас глазами. Им запретили, верно, выходить на улицу, пока мы не уйдём. Мы сразу стали для всех как зачумлённые.
– И чего они слушаются своего падре? – злился я. – Ведь всем было весело, все были довольны, а он пришёл и всё испортил.
– А я лучше хочу быть в аду с тобой, с дядей Джузеппе и с Гоцци, чем в раю с этими… с этими долгополыми обезьянами. Нет, зачем он сломал наши ширмы? – У Паскуале задрожали губы, и он отвернулся.
Я запустил камнем в чёрную ворону, сидевшую на кусте, и она, глухо каркая, полетела прочь.
Нам надо было пройти семь миль, чтобы к ночи попасть в соседнюю деревушку.
Мы переходили из деревни в деревню и, кое-как починив ширмы, представляли на постоялых дворах. Почти всегда мы получали за это ужин и ночлег. Не раз сердце у меня сжималось, чуть, бывало, увижу вдалеке чёрную фигуру священника. Тогда мы поспешно складывали кукол и пускались наутек.
Иногда в дороге нас заставала вьюга. Прижавшись спиной к нависшей скале или к столетнему стволу пихты, мы дули себе на окоченевшие пальцы. Но вот мы пришли в Инсбрук, лежавший в котловине среди снежных гор, и обогрелись. Целую неделю мы представляли там на постоялом дворе и даже в зажиточных домах, куда нас звали потешить ребят.
Там мы смастерили себе новые ширмы. Там же Паскуале заговорил по-немецки. Он запоминал незнакомые слова лучше, чем я. Он и меня стал учить. Мы брели по горным дорогам, солнце едва пригревало, когда я стал повторять за Паскуале разные немецкие слова, и первое слово было «дас брод» – «хлеб», а второе – «дер поппеншпэлер» – «кукольник».
Теплело. Внизу под нами маленькие радуги перекидывали свои полосатые мостики над весенними ручьями, радуги горели по утрам на горных склонах. На чёрных прогалинах пробивалась трава. Птицы попискивали в ещё голых кустах. Пристав к партии каких-то людей с тюками на плечах, мы ночью перешли границу по горной тропинке. Перед нами открылись лесистые холмы Баварии. Между ними, извиваясь как змея, белела дорога.
КАРЕТА ЕПИСКОПА
– Пеппо, у тебя в мешке не осталось сухарика?
– Да ведь ты сам знаешь – вчера мы сгрызли последний.
– А далеко ещё до Альтдорфа? Очень хочется есть.
– А вон там, за деревьями, какие-то крыши. Видишь? Может быть, это и есть Альтдорф.
Из-за деревьев показалась красная черепичная крыша с петухом на верхушке. Мы прибавили шагу и вышли из леса. Перед нами протянулась пыльная деревенская улица. Направо при въезде в деревню красовался богатый постоялый двор с резным крыльцом. Мы поставили перед ним наши ширмы. Едва я заиграл на губной гармонике, а Паскуале запел, чтобы созвать народ, как из всех окон глянули любопытные лица. Ребята, вздымая пыль, мчались к нам со всех дворов. Конюх, смазывавший телегу, бросил свою смазку. Из кухни выглянула, толстая стряпуха. Сам хозяин двора в зелёном переднике, от которого ещё краснее казалось его лицо, вышёл на крыльцо, покуривая глиняную трубку.
– Гляди… пообедаем нынче… – шепнул я Паскуале.
Толпа вокруг нас прибывала. Толстопузый сельский сторож подошёл и, сдвинув на затылок треугольную шляпу, стал прямо против ширм. Улыбка расползлась по его круглому, блестящему лицу с носом луковицей.
Мы спрятались за ширмы. Голод прибавил нам усердия. Ещё никогда Пульчинелла не верещал так пронзительно и чёрный пудель не таскал его так яростно за нос, как в этот раз.
То-то было смеху и ребячьих вскриков!
Наконец Пульчинелла поддел дубинкой бездыханного сбира, швырнул его за ширмы и в последний раз мотнул своим белым колпачком, прощаясь с публикой.
Я вышел из-за ширм и заиграл тирольский танец. От голода у меня сосало под ложечкой. Сейчас спляшет Нинетта, а потом, может быть, вкусная дымящаяся похлебка и кусок говядины вознаградят нас за труд. Я уже втягивал носом густой запах этой похлебки и косился на кухонное окно.
Вдруг вдоль улицы послышался конский топот. Всадник в красном кафтане скакал к постоялому двору. Гладкий конь резво выбрасывал вперед стройные ноги.
Маленькая Нинетта появилась в отверстии наших запылённых ширм и стала плясать. Но никто, кроме малых ребят, на неё не смотрел. Взрослые, повернув головы, глазели на нарядного всадника. Он осадил лошадь перед крыльцом, придерживая рукой шляпу с перьями, и что-то сказал хозяину.
Хозяин всплеснул руками, выронил свою трубку, натянул колпак на нос, потом вовсе сдёрнул его и опрометью бросился в дом.
Не отрывая губ от гармоники, я видел, как сельский сторож вытянулся в струнку у крыльца. Всадник нахмурился и надменно указал сторожу на наши ширмы, сжимая хлыст жёлтой перчаткой.
– Разойдитесь! – крикнул сторож. – Сюда едет его святейшество господин епископ и будет здесь закусывать.
– Епископ! – ахнули в толпе.
Мужчины деловито разошлись в стороны. Женщины тащили от нас ревущих ребят. Стряпуха со всех ног бросилась в кухню, где уже орал потерявший голову хозяин. Конюх покатил телегу под навес. Поварята побежали по двору, ловя кур и гусей. Перед нашими ширмами не осталось ни души. Все на постоялом дворе метались как очумелые. А я всё ещё играл, и маленькая Нинетта плясала. Сторож выбил у меня гармонику из рук.
– Вон отсюда, оборванцы! Чтобы вашего духу здесь не было, бродяги! – заорал он.
Нинетта замерла с поднятой ручкой. Испуганный Паскуале выглянул из-за ширм. Я кинулся складывать ширмы, оглядываясь на кухонное окно.
– Живее, убирайтесь! – крикнул сторож и дал мне по затылку.
Я чуть не упал.
– Ай! – взвизгнул Паскуале. – За что же вы нас гоните? Мы заработали себе обед!
Вместо ответа сторож схватил нас за шиворот, как щенят, и протащил так шагов тридцать по дороге. Потом, дав каждому пинка, он крикнул:
– Ступайте к чёртовой бабушке, она вас накормит обедом! Посмейте только шататься здесь, я вам голову сверну! А что это? Господин епископ едет, а они всякую дрянь развесили! – И сторож, яростно ругаясь, сдёрнул с плетня дырявый горшок.
Мы пошли прочь из деревни. Сторож с развевающимися фалдами сгонял с дороги свинью и поросят. В конце улицы показалась золочёная карета. Её окружали всадники в красных кафтанах. Хозяин постоялого двора выбежал на середину улицы и стал низко кланяться, хотя карета была ещё далеко.
– Они съедят наш обед, – пробормотал Паскуале и погрозил кому-то кулаком.
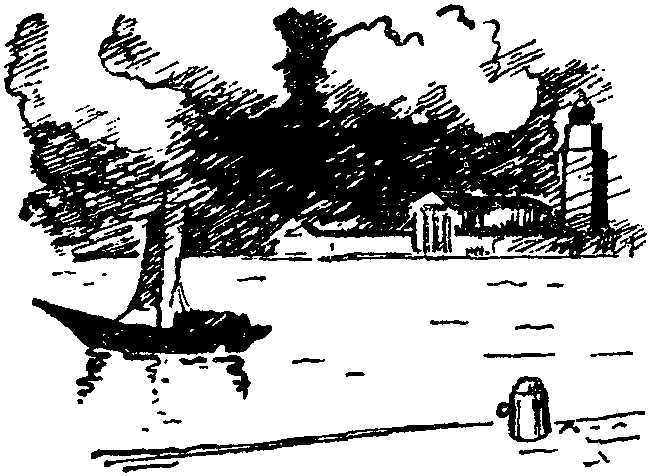
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
КАШПЕРЛЕ
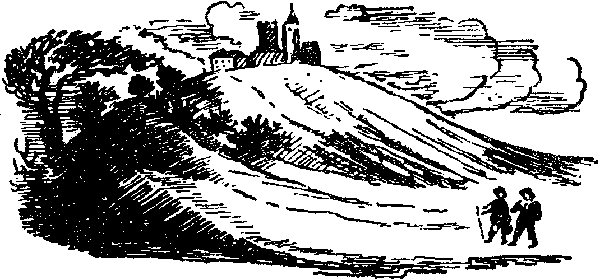
ВСТРЕЧА С МЕЙСТЕРОМ ВАЛЬТЕРОМ
Мы могли вернуться задворками и попросить хлеба у крестьянок. Но Паскуале твердил одно: «Мы не нищие…» – и упрямо шёл прочь от деревни. Посреди улицы, выпятив грудь, как индюк, всё ещё торчал сторож. Скоро мы вошли в лес. Дорога вилась между холмами. К полудню весеннее солнце стало припекать. С голоду меня мутило, а Паскуале еле волочил ноги.
Мы присели отдохнуть на склоне горы, у весеннего ручейка.
Кусты закрывали нас со стороны дороги. Подснежники уже голубели в траве.
Вдруг из-за поворота дороги послышались хлопанье кнута и крики: «Гей, гей, старый! Прибавь-ка шагу, гей, гей!» Из-под горы показалась голова серой лошади. Жёлтый бант качался между её ушей. За ней вынырнула голова мужчины в рыжей шляпе, а потом показалась тележка, нагруженная сундучками и досками. На козлах сидела худощавая женщина в капоре, придерживая рукой большой узел.
