Главный виновник, стр. 1
Бруно Ясенский
Главный виновник

Голая равнина перед окопом, начисто подметенная прожекторами, слепила ровным, мертвенным сиянием. Походило на то, что неприятель, отступая, потерял здесь иголку и этой пасмурной ночью взялся ее отыскивать. Вдали удивленно ахали орудия. В окопе было тихо. Слышно было, как у солдат от напряжения и страха мелко позванивают зубы.
– В атаку!
Никто не шелохнулся. Даже орудия вдали умолкли, прислушиваясь. Стояла накаленная, белая тишина.
– Господи! Может, не пойдут! Может, на этот раз не пойдут!
Но уже на правом фланге, мешкая и путаясь в полах шинелей, лезли на бруствер. Кто-то первый, пригнувшись к земле, спрыгнул на полыхающую светом луговину. И вдруг, словно подчеркивая трудный акробатический номер, в гулкую тишину ворвалась барабанная дробь пулеметов.
Люди бежали теперь развернутой цепью. Они стали падать как-то сразу, лицом вперед, вытянув руки, будто споткнувшись о невидимую проволоку…
Судорога, сковывавшая все его тело, отскочила, как пружина. Он взобрался на бруствер. Резкий свет прожекторов полоснул по глазам. Земля светилась, как фосфор. Он поднялся и побежал, почти на карачках, волоча по земле прикладом. Воздух жалобно взвизгивал от уколов. «Хотя бы маленькая выемка от снаряда!» Выемки не было. Может быть, мешал видеть этот страшный, режущий свет.
Слева, в нескольких шагах, торчал из кочки тонкий березовый пенек. От пенька струилась по земле узенькая полоска тени…
Он дополз и уткнулся в нее лицом, припав всем телом к кочке. Желание вдавиться в землю было так неистово, что на минуту показалось: земля поддается, и он уходит в нее, как крот.
Мимо, задевая, бежали сапоги и приклады. Кто-то споткнулся и рухнул на него со всего маху. Он приподнял голову. Молодой поручик смотрел на него, мигая глазами, обожженными светом.
– Трррус! – прошипел поручик, расстегивая кобуру…
…Он проснулся в поту, с лицом, облепленным соломенной трухой. Вдавливаясь в постель, он разорвал ногтями подушку. Долго сидел, громко дыша, не в состоянии сообразить, где он. Опять этот навязчивый кошмар!
Это началось с ним давно, вскоре после окончания той первой, большой войны. Для него она окончилась несколько раньше, чем для других. По счастью, его притравили газами, и последние месяцы он провел почти комфортабельно в тыловом лазарете. Они не сообразили, что отравили его не насмерть, а потом, пока в госпитале возились с его дырявыми легкими, война вдруг кончилась. Так утверждали газеты. На самом деле она продолжалась по ночам. Он недовоевал нескольких месяцев, и она мстила ему за это каждую ночь. Она заставляла его переживать заново часы смертельного страха, велела умирать на сотни ладов ему, ухитрившемуся не умереть раз по-настоящему.
Это длилось целых два года, пока, наконец, ей надоело гримироваться сном, и она снова началась наяву. По правде, он никогда не верил, что она действительно кончилась. Теперь он понимал: это была просто передышка, он получил двухлетний отпуск на поправку. (Ребята с фронта получали двухнедельные, – ему повезло и в этом, – но зато после возвращения их убивали обычно уже без долгой волокиты, многих в первый же день.)
Газеты наперебой уверяли, что это вовсе не та же самая война, а совсем-совсем другая: священный поход в защиту цивилизации от наступающего восточного варварства. Воскресшая всего два года назад, независимая Польша в силу особой, предначертанной ей свыше миссии обязана была продвинуть до Днепра форпосты культурного Запада. Впрочем, о предыдущей войне они писали приблизительно то, же самое.
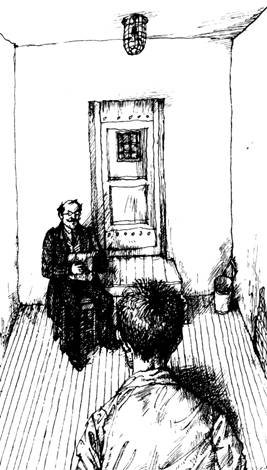
Он знал, как катехизиз, как десять заповедей солдата, внушаемых унтерами новобранцам, что всякая война священна, каждый воюет в защиту цивилизации и всегда кому-то необходимо куда-то продвинуть какие-то форпосты. Он знал, что газеты – это те же унтера, только для штатских, и предоставлял желторотым новичкам демонстрировать по улицам с маршевыми песнями свою боевую прыть. Понюхав фронта, они быстро запоют по-другому.
Что касается его, то он нанюхался достаточно, до кровавой рвоты, и его на эти штучки не возьмешь.
В банке, где он работал младшим счетоводом, смотрели на эти вещи по-другому. Большинство мелких чиновников давно ушло добровольцами. Положение с каждым днем становилось все щепетильнее. Когда же форпосты культурного Запада, оттесненные варварами от Днепра, стремительно приблизились к варшавским заставам, старший бухгалтер из другого отдела закатил ему на глазах у всех звонкую оплеуху и обозвал трусом и изменником.
Со службы пришлось уйти. Он заперся дома и попробовал отсидеться. У него были кое-какие сбережения, достаточные, чтобы переждать. В то время он был еще здорово наивен – он верил, что его, быть может, оставят в покое.
Его разыскали на дому и вручили мобилизационный билет. На улицах растрепанные почтенные дамы ловили молодых людей в штатском и отводили к ближайшему полицейскому посту, срывая с них на ходу галстуки. Укрыться было негде. Каждая улица, стоило лишь ступить на нее ногой, захлопывалась, как мышеловка.
В казармах им выдали французские шинели и выстроили на перекличку. Бывалых, принимавших участие в прошлой войне, построили отдельно, дали снаряжение и обещали завтра же отправить в окопы. Народ попался все молчаливый, незнакомый, за исключением Яна Гловака, – служили когда-то в одном взводе и потеряли друг друга в Мазурских болотах.
Ночь провели на одних нарах, не вороша бранных воспоминаний.
– Я знал, что они не успокоятся, пока всех нас не перебьют! – сказал вдруг среди ночи Гловак и, помолчав, добавил: – С меня хватит, надоело!
Утром Гловака на нарах не оказалось. Его нашли в сортире, когда рота собиралась к отправке. Он висел на ремне от штанов, прикрепленном к рычагу для спуска воды, – длинный и нескладный, в подштанниках, с лиловым шрамом от осколка снаряда через левую скулу. Вода, журча, текла, омывая большие пальцы его костлявых ног.
Так он и остался в памяти: вытянувшийся и длинный, словно на цыпочках стоящий в воде.
Офицер в сердцах обругал покойника проклятым трусом и велел убрать его в мертвецкую. До передовых позиций было всего полчаса езды на грузовике, и этот идиот Гловак, право, мог подождать.
Опять шла война. Мирный стол в банке с кипами разграфленной бумаги казался отсюда радужным видением. Скорее всего это как раз и был сон. Действительность была здесь. Она состояла в бесконечных переходах от звериного страха, пробкой закупорившего горло, к абсолютному отупению: «Скорей бы уж! Пусть!» Ночью Ян Гловак, длинный и босой, с лиловым шрамом через скулу, шел на цыпочках, как Христос по журчащей воде. Идти за ним мешал страх…
…Очнулся в лазарете с комом белой марли вместо головы. Из марли, как уголек в башке снегового болвана, смешно щурился единственный глаз. Опять говорили, что война кончилась. Он закрывал глаз и улыбался в марлю: старые штучки!
Через несколько месяцев его выписали. Молодой госпитальный хирург, большой любитель новых веяний в медицине, заплатал ему нос куском ляжки. Нос сросся почти незаметно, с легким уклоном вправо. Починить вытекший глаз при нынешних консервативных методах медицины было несколько труднее. Пришлось удовлетвориться стеклянным. Голубой, с томной поволокой, по заверениям фельдшера, он был даже выразительнее и задумчивее правого.
Дома, рассмотрев в зеркало свое слегка примятое лицо с испуганно вытаращенным глазом, он немного приуныл. Залог жизненного успеха, привлекательная внешность, которой он раньше так дорожил, – даже ее поспешили у него отнять, устранить оперативным путем.
Взамен оставалась несмелая надежда: может быть, теперь, с одним глазом, его больше не погонят на войну. Впрочем, стреляя из винтовки, все равно надо закрывать левый глаз, значит, солдату он вовсе не нужен. Надеяться было не на что.
