Лирика 30-х годов, стр. 61
«Как след весла, от берега ушедший…»
Как след весла, от берега ушедший,
Как телеграфной рокоты струны,
Как птичий крик гортанный, сумасшедший,
Прощающийся с нами до весны,
Как радио, которых не услышат,
Как дальний путь почтовых голубей,
Как этот стих, что, задыхаясь, дышит,
Как я — в бессонных думах о тебе.
Но это все одной печали росчерк,
С которой я поистине дружу,
Попросишь ты: скажи еще попроще,
И я еще попроще расскажу.
Я говорю о мужестве разлуки,
Чтобы слезам свободы не давать,
Не будешь ты, заламывая руки,
Белее мела, падать на кровать.
Но ты, моя чудесная тревога,
Взглянув на небо, скажешь иногда:
Он видит ту же лунную дорогу
И те же звезды, словно изо льда!
Сентябрь
Едва плеснет в реке плотва,
Листва прошелестит едва,
Как будто дальний голос твой
Заговорил с листвой.
И тоньше листья, чем вчера,
И суше трав пучок,
И стали смуглы вечера,
Твоих смуглее щек.
И мрак вошел в ночей кольцо
Неотвратимо прост,
Как будто мне закрыл лицо
Весь мрак твоих волос.
«Стих может заболеть…»
Стих может заболеть
И ржавчиной покрыться
Иль потемнеть, как медь
Времен Аустерлица,
Иль съежиться, как мох,
Чтоб Севера сиянье —
Цветной переполох —
Светил ему в тумане.
И жаждой он томим,
Зарос ли повиликой,
Но он неизгоним
Из наших дней великих.
Он может нищим жить,
Как в струпьях, в строчках рваных,
Но нет ни капли лжи
В его глубоких ранах.
Ты можешь положить
На эти раны руку —
И на вопрос: «Скажи!» —
Ответит он, как другу:
«Я верен, как тебе,
Мое любивший слово,
Безжалостной судьбе
Столетья золотого!»
«Я люблю тебя той — без прически…»
Я люблю тебя той — без прически,
Без румян — перед ночи концом,
В черном блеске волос твоих жестких
С побледневшим и строгим лицом.
Но, отняв свои руки и губы,
Ты уходишь, ты вечно в пути,
А ведь сердце не может на убыль,
Как полночная встреча, идти.
Словно сон, что случайно вспугнули,
Ты уходишь, как сон, — в глубину
Чужедальних мелькающих улиц,
За страною меняешь страну.
Я дышал тобой в сумраке рыжем,
Что мучений любых горячей,
В раскаленных бульварах Парижа,
В синеве ленинградских ночей.
В крутизне закавказских нагорий,
В равнодушье московской зимы
Я дышал этой сладостью горя,
До которого дожили мы.
Где ж еще я тебя повстречаю,
Вновь увижу, как ты хороша?
Из какого ты мрака, отчаясь,
Улыбнешься, почти не дыша?
В суету и суровость дневную,
Посреди роковых новостей,
Я не сетую, я не ревную, —
Ты — мой хлеб в этот голод страстей.
«И встанет день, как дым, стеной…»
И встанет день, как дым, стеной,
Уеду я домой,
Застелет [21] поезд ночь за мной
Всю дымовой каймой.
Но если думаешь, что ты
Исчезнешь в том дыму,
Что дым сотрет твои черты,
Лишь дым я обниму…
В заката строгого резьбе,
Одной тебе верны,
Твои мне скажут о тебе
Норвежцы со стены.
Тебя в картине на стене
Найду в домах у них,
И ты поднимешься ко мне
Со дна стихов моих,
Ты будешь странствовать со мной,
И я не отрекусь,
Какую б мне, как дым, волной
Ни разводили грусть.
Если тебе не все равно,
А путь ко мне не прост, —
Ты улыбнись мне хоть в окно
За десять тысяч верст.
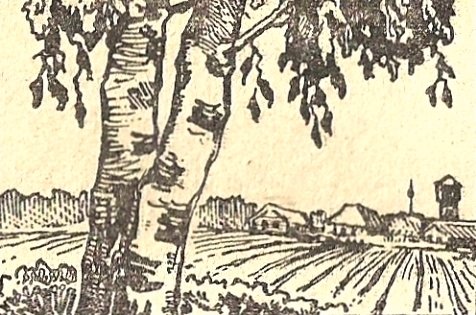
Дмитрий Кедрин
Тени
По рельсам бежала людская тень.
Ее перерезала тень трамвая.
Одна прокатилась в гремящий день,
Другая опять побежала — живая.
Ах, как хорошо в мире у теней.
В мире у людей умирают больней.
Кукла
Как темно в этом доме!
Тут царствует грузчик багровый,
Под нетрезвую руку
Тебя колотивший не раз…
На окне моем — кукла.
От этой красотки безбровой
Как тебе оторвать
Васильки загоревшихся глаз?
Что ж!
Прильни к моим стеклам
И красные пальчики высунь…
Пес мой куклу изгрыз,
На подстилке ее теребя.
Кукле много недель,
Кукла стала курносой и лысой.
Но не все ли равно?
Как она взволновала тебя!
Лишь однажды я видел:
Блистали в такой же заботе
Эти синие очи,
Когда у соседских ворот
Говорил с тобой мальчик,
Что в каменном доме напротив
Красный галстучек носит,
Задорные песни поет.
Как темно в этом доме!
Ворвись в эту нору сырую
Ты, о время мое!
Размечи этот нищий уют!
Тут дерутся мужчины,
Тут женщины тряпки воруют,
Сквернословят, судачат,
Юродствуют, плачут и пьют.
Дорогая моя!
Что же будет с тобою?
Неужели
И тебе между них
Суждена эта горькая часть?
Неужели и ты
В этой доле, что смерти тяжеле,
В девять — пить,
В десять — врать,
И в двенадцать
Научишься красть?
Неужели и ты
Погрузишься в попойку и в драку,
По намекам поймешь,
Что любовь твоя —
Ходкий товар,
Углем вычернишь брови,
Нацепишь на шею собаку,
Красный зонтик возьмешь
И пойдешь на Покровский бульвар?
Нет, моя дорогая!
Прекрасная нежность во взорах
Той великой страны,
Что качала твою колыбель!
След труда и борьбы —
На руке ее известь и порох,
И под этой рукой
Этой доли
Бояться тебе ль?
Для того ли, скажи,
Чтобы в ужасе
С черствою коркой
Ты бежала в чулан
Под хмельную отцовскую дичь, —
Надрывался Дзержинский,
Выкашливал легкие Горький,
Десять жизней людских
Отработал Владимир Ильич!
И когда сквозь дремоту
Опять я услышу, что начат
Полуночный содом,
И орет забулдыга-отец,
Что валится посуда,
И голос твой тоненький плачет, —
О терпенье мое,
Оборвешься же ты наконец!
И придут комсомольцы,
И пьяного грузчика свяжут,
И нагрянут в чулан,
Где ты дремлешь, свернувшись в калач,
И оденут тебя,
И возьмут твои вещи,
И скажут:
— Дорогая!
Пойдем,
Мы дадим тебе куклу.
Не плачь!
вернуться
21
В бумажной книге «Заселет». (прим. верст.)
