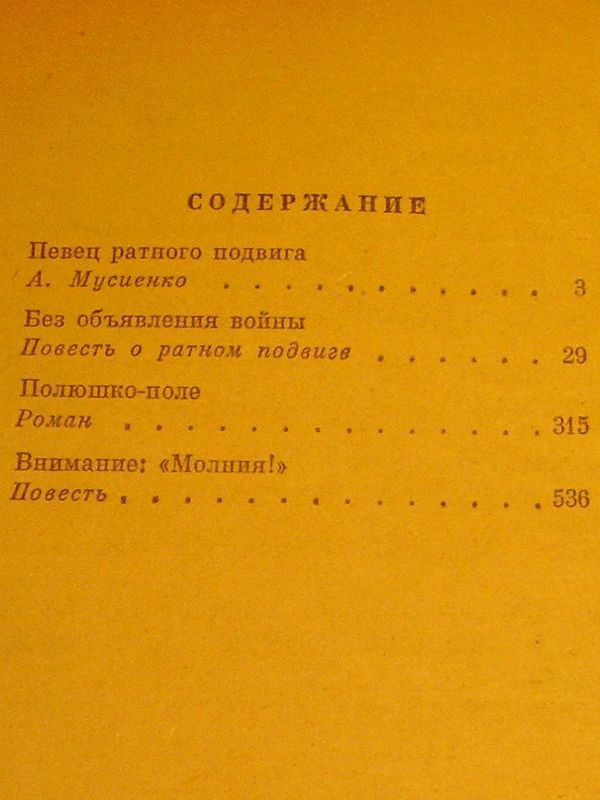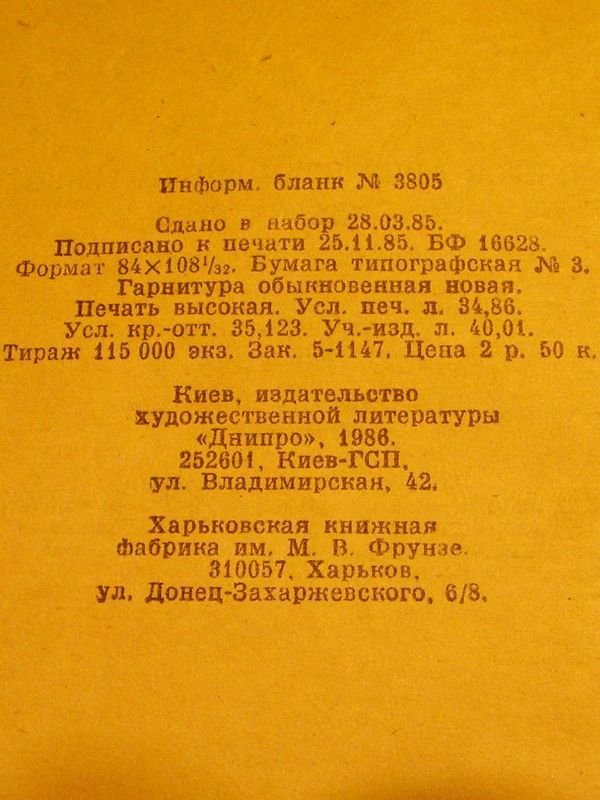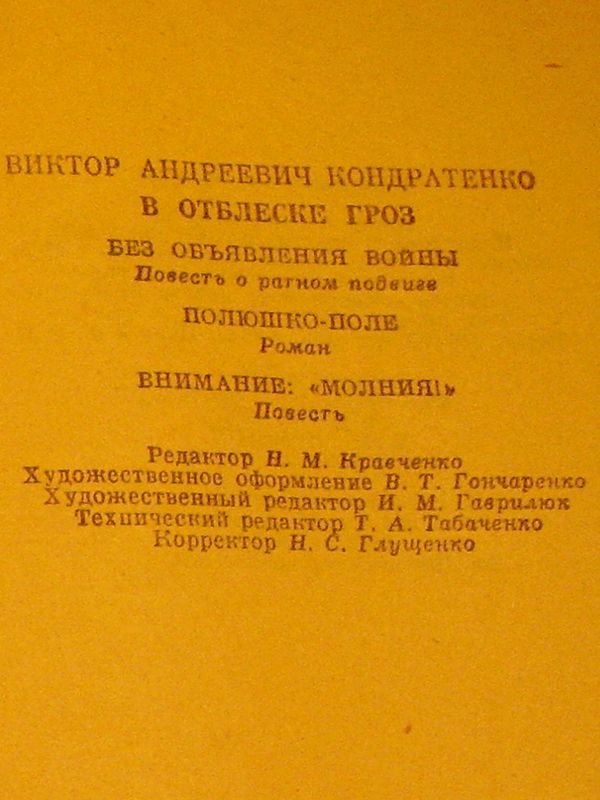Внимание: «Молния!», стр. 42
А у Гитлера уже другой перелив голоса. Он, потрясая кулаками, кричит:
— Рушится фронт. Теперь важно просто упорно удерживать позиции. Я прикажу превратить на пути русских каждый город в крепость и защищать его до последнего гренадера. — Он внезапно успокоился и продолжал: — Я думаю поручить это Моделю.
Короткие поклоны, и аудиенция окончена. За дверью Манштейн увидел Моделя. Тот, никого не замечая (или делая вид, что не замечает), старательно прихорашивался у зеркала. Манштейн, не желая сейчас встретиться со своим сияющим преемником, стал спускаться по мраморной лестнице. «Снятие с поста — тяжелый удар, но это не падение в пропасть», — мелькнула у него мысль. На Днепре он еще верил в возможность ничейного исхода войны. В данный момент он видит ее проигранной. Он стал обдумывать свое положение. «Как ни странно, но переменчивость судьбы несет свои выгоды. Теперь можно смело выбросить из кармана ампулу с цианистым калием. Когда же выгодно будет, то и прикинуться опальным фельдмаршалом, пострадавшим за свое несогласие с решениями диктатора. Как только германская армия сложит оружие, это «несогласие» — раздуть любым способом. А если придется отвечать за геноцид в Крыму, за расстрелы в Николаеве и Херсоне, то можно будет сослаться на приказы Гитлера. О нет! К дьяволу все ссылки. Никаких приказов не читал и не подписывал. Не знаю... Не помню... Но все это в будущем, а пока надо думать о настоящем. После сдачи дел сейчас же перебраться на запад, поближе к французской границе, и там ждать прихода американцев или англичан». — Крепко задумавшись, Манштейн оступился на последней ступеньке, но дежурный эсэсовец сумел вовремя подхватить его под руку.
18
Ватутин часто просыпался среди ночи и долго лежал с открытыми глазами. Он думал о жене, о детях и все чаще с тревогой вспоминал о матери. Она совсем недавно потеряла на фронте двух сыновей. Его братья — сапер Афанасий и танкист Семен — скончались от тяжелых ран. А теперь и его ужалила разрывная пуля.
«Ночники» появлялись над Ровно, выли бомбы, били зенитки. И острая боль тоже не давала покоя. Казалось, будто болезнь превратила непослушную ногу в резиновую камеру и какая-то тайная, злая сила, словно насосом, накачивала ее.
После утреннего обхода врачей его обычно навещал командарм Пухов. Вот и сейчас он появился в палате, застегивая по-военному на все пуговицы белый халат.
— Николай Федорович, я рад доложить вам: фронт врага прорван. Манштейн смещен. Его преемник фельдмаршал Модель отступает. — Пухов усмехнулся. — Теперь и Мoдель не та модeль.
— Неплохо сказано, неплохо... — Ватутин старался приподняться. — Я очень жалею, что вышел из строя. Я хотел участвовать в последней битве за Берлин... Думал взять этот город... Если б я мог хоть одним глазом взглянуть на атаку... Как наши войска продвигаются к рейхстагу. За такое мгновение и жизнь отдать не жалко.
— Вы молоды, болезнь должна отступить.
— Не знаю... Врачи тоже не пророки... Но сейчас как будто легче стало. Вы принесли мне самое лучшее лекарство.
— Я хочу вам также сообщить, что Ставка распорядилась эвакуировать вас в Киев.
— Я люблю этот город. В нем прошли лучшие дни моей жизни.
Пухов на автомобиле провожал Ватутина несколько десятков километров по шоссе. Исправный железнодорожный путь начинался у маленького переезда, и туда подошел паровоз с двумя вагончиками.
Пухову нелегко было прощаться с Ватутиным. Сейчас им все больше овладевала мысль, что видит он Николая Федоровича, наверное, в последний раз. И от этого чувства на душе тяжесть.
Паровоз дал протяжный гудок.
— Положите меня поближе к свету, — сказал Ватутин. — К свету.
Он лежал у окна и под перестук колес смотрел, как на дальние бугры наплывают белые весенние облака. На бугры, к облакам медленно всходили первые пахари.
«Что-то знакомое в походке этих пахарей... Так когда-то шли за плугом мой дед и отец», — подумал он.
Долго смотреть на плывущие облака он не мог и зажмурил глаза. В перестуке колес возник знакомый с детства шум ткацкого станка. Поскрипывали деревянные блоки и валики... Из угла избы выплывала темно-коричневая дубовая громадина. Мать поправляла нити, и снова сквозь их упругие ряды проворной желтоватой птичкой летал челнок.
«Коленька, это тебе на рубаху», — мать, примеряя, набрасывает ему на плечи полотно.
Над ним с тревогой склоняются дети: дочь и сын.
«Папа, ты тяжело ранен?»
«Вы не тревожьте маму. Не говорите ей ничего. Скоро все заживет. Я встану... А вот и Таня... — Он с нежностью смотрит на жену. — Танюша, когда освободили наши Чепушки, я прошел под старой вербой. Помнишь, где мы встречались всегда? И увидел тебя совсем юной... прекрасной... В шелесте листьев услышал твой голос...»
Хата в селе Чепухине заполняется народом.
«Где эти мистеры на том земном полушарии?» — Дед Балкан гневно стучит палкой о земляной пол.
Вдали играют походные трубы.
Громко, отчетливо звучат позывные сигналы Москвы...
Врывается торжествующий голос Левитана: «Доблестным войскам, освободившим Киев...»
Гремят залпы артиллерийского салюта.
Он открывает глаза. В небе показываются самолеты. Серебристые «петляковы» мелькают в облаках.
Останавливаются пахари, высоко вверх подбрасывают шапки. Они приветствуют летчиков. С грозным рокотом бомбардировочной эскадры сливаются гудок паровоза и перестук колес.
Ватутин провожает взглядом строй самолетов.
«Фронт врага прорван. Наступление продолжается!» И снова радостно смотрит он на дальние гребни бугров. Там, на фоне белых облаков, видны силуэты пахарей.
— Больше всего на свете я люблю облака и хлеба, — шепчет он.
И как-то странно уходят вдаль, туманятся гребни бугров, и верхушки тополей, как метлы, сметают с неба свет вечерней зари.
Он приходит в себя уже в Киеве. «Как все разбито и разрушено». Он не узнает знакомые улицы. Здесь тоже странно все туманится...
«Внимание: «Молния!» «Молния!» — звучат голоса радистов.
Полет молний распарывает мрак от туч до самой земли.
«Нет, это вспышки прожекторов: идет световая атака...»
Бьют пушки.
«Рядом ложатся снаряды... Как жарко от близких разрывов...»
...И возникает в кипении молодой листвы на вековой горе в Киеве гранитная фигура полководца с надписью, высеченной на постаменте:
ГЕРОЮ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
ГЕНЕРАЛОВІ
ВАТУТІНУ
ВІД
УКРАЇНСЬКОГО
НАРОДУ
Он стоит в распахнутой шинели, с непокрытой головой, как бы прислушиваясь к шуму древнего славянского города, к плеску днепровских волн, к щебету птиц. Плывут по небу белые-белые облака, а под ними на ветру шумят-переливаются высокие хлеба. Колосятся на солнечном просторе тучные нивы, утверждая на земле вечное торжество жизни.