Рассказы и повести, стр. 82
Они вышли к широкой реке. Блестя на солнце, она быстро текла между зелёными берегами.
Онуте показала на реку:
— А вот это наша Нерис.
Миша вынул красную книжечку и стал записывать: «Нерис». Онуте привстала на цыпочки, заглянула:
— Что ты пишешь?
— Ничего… Дневник. Я ведь путешественник.
— Путешественник? Ой, я ещё никогда не видела путешественников!
Миша улыбнулся:
— Ну вот, сейчас видишь!
Он засунул книжечку в карман. Они пошли вдоль набережной.
Через реку был перекинут мост. Во всю его длину работали красноармейцы — полуголые, без гимнастёрок. Они ловко орудовали топорами. Их загорелые спины маслянисто блестели.
Мост был новенький и весело сверкал чистыми, светло-жёлтыми, точно сливочное масло, брёвнами. Пахло лесом, сосной, смелой. Ветер играл сухими, завитыми в пружинки стружками, катил их по настилу, сбрасывал в воду.
Высокий, широкоплечий, загорелый красноармеец устанавливал в голове моста дощечку с надписью:
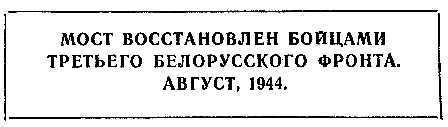
Миша подошёл к нему:
— Товарищ красноармеец, можно нам пройти на ту сторону?
Красноармеец вытер голым локтем потный лоб и сказал:
— Отчего ж? — Он взмахнул топором, лезвие которого сверкнуло на солнце. — Шагай, ребятки, обновляй! Мосточек надёжный.
— Спасибо!
И Миша и Онуте перешли на ту сторону реки Нерис — обновили мост.
Глава шестая
ЗВЕРИНЕЦ
— Вот здесь Зверинец, — сказала Онуте.
При слове «Зверинец» Мише представлялся Московский зоопарк: пруд с важными чёрными и белыми лебедями и суматошными утками, широкие аллеи, слоновник, площадка, где катают на осликах малышей и где всё время тренькают бубенчики: динь-динь, динь-динь…
А здесь?…
Перед Мишей простиралась широкая немощёная улица. Когда-то она была, видно, зелёной, потому что вдоль узких тротуаров торчали обугленные стволы. За ними видны были разрушенные дома.
Там, в центре, на Страшун-улице, да и в других местах, где дома большие, многоэтажные, — там хоть стены остались. А здесь, на окраине, и того не было.
Груды битого кирпича, чёрных брёвен и головешек безотрадной вереницей тянулись одна за другой во всю длину улицы, насколько хватал глаз.
Наверно, все дома здесь были одинаковые, потому что развалины были очень похожи друг на друга.
Миша с трудом поспевал за Онуте, которая теперь уже не семенила, а шла довольно быстро. Её босые ноги оставляли в пыли, перемешанной с пеплом, ямки. Миша шёл за ней, стараясь не наступать на эти ямки.
— Онуте, — крикнул он, — вы тут жили, да? Где же ваш дом?
Онуте не ответила. Вот она остановилась у одной груды развалин. Ветер с реки трепал её длинное, не по росту, платье.
Миша не выдержал: — Онуте, где же ваш дом?
Онуте молчала, растерянно оглядываясь. Внизу, на реке, весело перестукивались топоры. Один повторял: тут-тут-тут! Другой словно спорил: там-там-там!
Онуте стояла с понурой головой, и казалось, будто она внимательно прислушивается к разговору топоров.
Наконец она подняла голову и тихо сказала:
— Не знаю…
— Чего — не знаю?
— Не знаю, где дом, — еле слышно повторила Онуте.
Миша удивился:
— Как же ты не знаешь? Ведь вы там жили.
Онуте снова стала беспомощно оглядываться:
— Если бы всё целое было… Если бы хоть печка…
— Какая печка?
— Большая такая, белая. Меня папа учил писать… Я гвоздиком на печке нацарапала «О» и «П». То мои буквы: Онуте Петраускайте.
Миша обрадовался:
— Вот здорово! Онуте Петраускайте! Давай искать печку. Ты только покажи, где, ты думаешь, ваш дом.
Онуте нерешительно подвела Мишу к одной из груд и, по-прежнему оглядываясь по сторонам, сказала:
— Может, здесь…
Потом она посмотрела на соседнюю груду:
— А может, там…
— Ладно, — сказал Миша. — Давай ты здесь, а я там.
Он вскарабкался на развалины. Черепица осыпалась. Ноги то скользили, то увязали в щелях между обломками. Но Миша не отступал. Он стал докапываться до печки. Нетерпеливо сбрасывал он глыбы штукатурки, кирпичи, черепичины… Скоро у него заныла спина, заболели руки. Папа, конечно, опять будет сердиться. Вчера пришёл грязный, оборванный после драки в переулке; сегодня опять приду весь чумазый…
— Нашёл? — время от времени кричала Онуте с соседней груды.
— Нет! А ты?
— Я тоже нет…
Дело подвигалось медленно. Немало кирпичей пришлось Мише разобрать. Вокруг него поднялась пыль, он стал чихать и кашлять, но работы не бросал. Вот он приподнял ржавое колено трубы, отшвырнул его и увидел уголок печки. С новой силой Миша принялся за работу. Теперь уже близко. Ещё три черепичины, ещё две… Сколько здесь черепицы, весь город в черепице!
Наконец стала видна передняя стена печки. Миша, вытирая руки о штаны, присел на корточки, долго приглядывался и вдруг закричал:
— Онуте! Сюда!
Онуте мигом спустилась с соседней груды и побежала к Мише.
— Нашёл? — кричала она набегу. — Нашёл?
— Кажется, да… Постой! Нет. Тут вовсе не «О» и «П», а «О» и «Р».
— Где? Где? Покажи! — твердила Онуте, карабкаясь по обломкам к Мише.

Он протянул ей руку, помог подняться. Она присела на корточки рядом с Мишей:
— Где?
— Вот!
На передней стене печки, над её чёрным челом с оторванной дверкой были смутно видны накорябанные гвоздём буквы. Онуте потрогала их, потом обернулась к Мише и тихо сказала:
— Ой, Миколас… то — наша! Наша!
Миша тоже потрогал буквы:
— Как же ваша? Ты сказала «О» и «П», а тут «О» и «Р».
— Ничего, то по-русски «Р», — отозвалась Онуте, — а по-литовски то «П».
Она погладила печку, потом спустилась с обломков, села на толстое бревно, которое лежало неподалёку, и, пригорюнившись, стала смотреть на остатки своего дома.
Миша сел рядом.
Над развалинами кружил ветер, взметая белую пыль и чёрный пепел. А внизу, на реке, по-прежнему перекликались неугомонные топоры-работяги: «тут-тут-тут» и «там-там-там»…
Глава седьмая
ПОДПОЛ
Солнце высоко поднялось над однообразными печальными развалинами Зверинца. Замолчали-топоры на мосту — красноармейцы ушли обедать. А Миша и Онуте всё ещё сидели на бревне.
Онуте рассказывала о себе.
— Вон там, — показывала она, — было крылечко. А там — призбочка. И мы с мамой там всегда сидели. Она мне сказки рассказывала: про Ивана-царевича, про Жар-птицу… А потом фашисты узнали, что она русская, и угнали её к себе…
Онуте пригнула голову к острым коленкам и тихонько заплакала. Миша нахмурился:
— Не надо, Онутечка! Не плачь.
— Она… там… умерла…
Миша помолчал.
— А ты зажмурься покрепче, — сказал он немного погодя. — Вот так, видишь?
Онуте послушно зажмурилась.
— Ну, как? Правда, лучше?
— Лучше, — улыбнулась Онуте.
Она уголком выгоревшего платка вытерла глаза и стала рассказывать о том, как они с папой жили одни, без мамы. По вечерам к ним приходил дядя Казимир, и папа тогда говорил: «Оняле, выйди, закрой ставни и посиди там. И смотри хорошенько: если чужой покажется, постучи!» И Онуте выходила и зорко смотрела в темноту.
— Вот, Миколас, видишь, вон там крылечко, где я сидела.
Миша никакого крылечка не видит, потому что оно завалено обломками, но ему очень жалко Онуте, и он говорит:
— Вижу.
Он внимательно слушает Онуте, и вот ему кажется, будто он на самом деле видит и крылечко, и папу Онуте, и какого-то дядю Казимира. Он будто видит, как однажды поздней осенью папа Онуте прошёл на кухню и поднял крышку подпола…
— А как это — подпол? — перебил Миша.
— Подпол, — объяснила Онуте, — это где картошка… Ну, подвал такой. И вот папа полез в подвал, а я ему говорю: «Тевай!» Это значит «папа», или ещё «тевялис» можно… «Тевай, зачем тебе в подпол? Ведь картошки больше нету!» А папа сказал: «Надо, Оняле. Только никому не говори, Оняле».
