Трагедия адмирала Колчака. Книга 1, стр. 20
В самые смутные и мятущиеся годы свои, больная или юродивая, Россия с озлоблением или благоговением бредила Колчаком. И она не могла забыть своего адмирала после его смерти — вопреки его смерти.
Верховного Правителя России, в России навсегда оставшегося.
Часть I
Восточный фронт гражданской войны
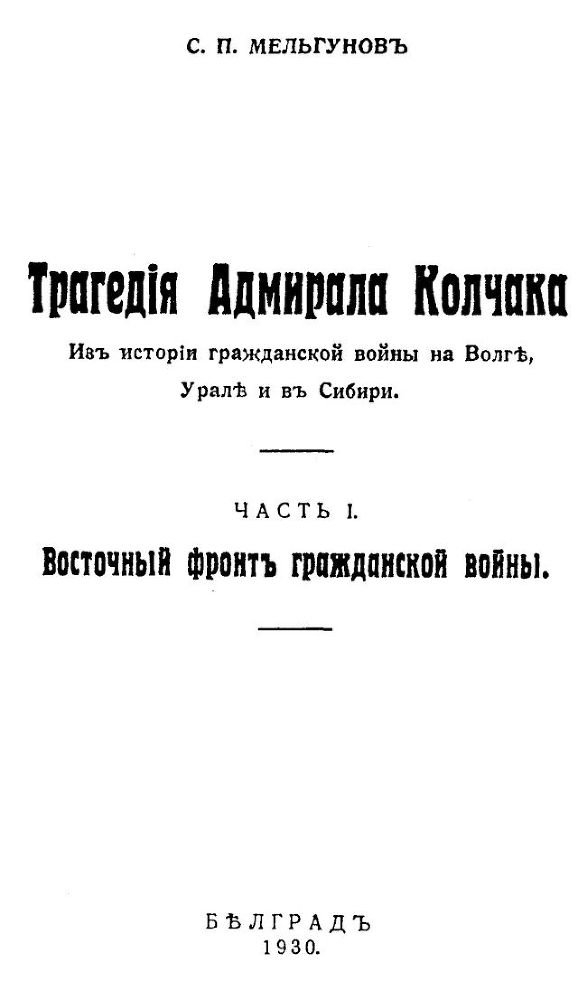
«Дело не в законах, а в людях»…
От автора
Свою книгу я назвал «Трагедией адмирала Колчака», хотя, в сущности, о личной трагедии «Верховного правителя» в Сибири буду говорить мало. А.В. Колчака я не знал и никогда не видел. Его облик рисуется мне только с чужих слов и из замечательного исторического документа, если не вышедшего из-под его пера, то непосредственно им созданного. Я имею в виду показания Колчака во время допроса следственной комиссией «революционного Правительства» в Иркутске в 1920 г. Достаточно прочесть этот литературный памятник, чтобы проникнуться величайшей симпатией к фигуре сибирского «диктатора», трагические черты которого отмечают и противники [напр., Б. Павлу в «Чехословацком Дневнике», № 269].
Да, в жизни этого человека была действительно драма. И заключалась она не только в том, что свои личные интересы он, как и многие в годы гражданской войны, принёс в жертву общественному долгу. Наука влекла его к себе в юности. Отважный путешественник и исследователь-гидролог, мечтавший открыть Южный полюс и совершивший в 1903 г. смелое путешествие на Крайний Север в поисках экспедиции бар. Толля, — он был одним из тех, кто посвятил себя возрождению русского флота после японской войны. Пришла затем европейская война. С энтузиазмом Колчак погрузился в атмосферу военных действий, считая победу Германии величайшим злом для России.
В войну клином вошла революция. Тогда имя Колчака прогремело в России в связи с командованием Черноморским флотом. Месяцы тяжёлой эпопеи гражданской войны, и «истинный патриот», по выражению проф. Перса в статье «SI. Rev.» [28, VIII], оставленный всеми, гибнет в большевицком застенке.
Это драма. Но не ей посвящаются последующие страницы. Я буду говорить о трагедии всей России, о трагедии всего того движения, которое превратило в глазах одних Колчака в национального героя, а для других связало его имя с неудачной «антрепризой».
Общественная трагедия здесь переплетается с трагедией личной. Человека, чувствовавшего, по собственным словам в интимном письме к другу, «отвращение» к политике, жизнь заставила быть политиком. Человека, видевшего в политической власти «крест», жизнь заставила быть «диктатором». Рыцаря подвига, безукоризненной моральной чистоты, брезгливо сторонившегося от интриг, бурно ненавидевшего произвол (характеристика бар. Будберга), политические противники сделали как бы символом политической интриги и политического насилия, искусственно и несправедливо концентрируя около личности российского «Верховного правителя» всё то тёмное и мрачное, что выступало так часто вопреки воле вождей на фоне борьбы, светлой и героической, за восстановление России. Идеалист, судорожно искавший лучших путей, делался ответственным за грехи других. «Колчак, узнав о расстреле заключённых в тюрьму членов Учредительного Собрания, в смутные декабрьские дни в Омске, бился в «истерике» [190], — рассказывает с.-р. Колосов, — этот диктатор обладал вообще темпераментом истерической женщины». Но неужели Колосов, а за ним Зензинов, повторившие эти слова, не понимают, сколь неуместна в данном случае их ирония? Она лишь служит личным оправданием того, с образом которого пытаются связать тёмные страницы освободительной от большевицкого насилия борьбы. В нём, Колчаке, была «подлинная человечность», как заметил писатель Ауслендер, дававший в Сибири общую характеристику российского «диктатора».
Колчак был диктатором sugeneris, диктатором «конституционным», диктатором, звавшим всех, кто любит Россию, к ней на помощь [191]. Допустим, что этот диктатор, засвидетельствовавший всей своей жизнью бесстрашие и решимость, человек, который переоценивал, как видно из взятого нами эпиграфа, роль личности в событиях, был человеком слабым, безвольным, легко поддававшимся чужому влиянию. Мог ли он, однако, встать вне условий, в которых должна была протекать его работа? Мог ли он преодолеть препоны, с которыми встречалась его «миссия» воссоздания России? Моя книга, приуроченная к десятилетию со дня гибели А.В. Колчака, пытается ответить на эти вопросы. Он в значительной степени имел право сказать в июне 1919 г. делегации от омского «Экономического Совещания»: «Мы — рабы положения».
Я знаю, что найдутся читатели, которые заранее откажут мне в объективном суждении. Моё политическое credo должно было заставить меня отнестись отрицательно если не к личности, то к деятельности диктатора. Того требует освящённая годами демократическая традиция. Если я за учёным, бесстрашным исследователем полярных стран, одним из воссоздателей морской мощи России после поражения, проникновенным солдатом русской армии, одухотворённым какой-то почти метафизической, иррациональной, идеей «очищения» человечества через войну, почти мистически познающим гегелевскую (и отчасти соловьёвскую) концепцию «счастья радости» и «единоспасительности» войны, — если я отрицаю за ним квалификацию «авантюриста», то этим уже нарушаю начала объективности, установленные скованной ложными догматами мысли. Отдавая должное, мне думается, я проявляю лишь здоровое чувство подлинной исторической объективности. Демократическим талмудистам я мог бы ответить словами Герцена: «Обличая революцию, я вовсе не был обязан переходить на сторону её врагов». Тактика части русской демократии, по моему мнению, погубила дело Колчака… и своё. Демократия в Сибири проиграла не оттого, что попала «между молотом интервенции и наковальней советской власти»…
Моя работа не будет апофеозом Колчака. Я не буду его рисовать национальным вождём, я не назову его «русским Вашингтоном», как сделал это, быть может, опрометчиво руководитель сибирской кооперации, старый демократ, народник-революционер А.В. Сазонов [192]. Может быть, на месте Колчака могли бы быть другие, лучшие, но их не было. В исторической обстановке того времени судьба, во всяком случае, выдвинула именно его. Он был чище и идейнее других [Будберг]. Пламенный темперамент, прямота и непосредственность, чарующая одних, создавала и врагов.
Колчак погиб, и даже показания его для потомства оказались прерванными на самом важном месте. Смерть его лежит на совести его политических противников — и не только их одних. Я говорю не о большевиках. Большевики для меня не политические противники. Под кровавыми ударами этих палачей погибли лучшие люди. Население осознало, по крайней мере, этот итог гражданской войны. Недаром несколько лет назад даже советская печать передавала сообщение о паломничестве, которое наблюдается в Иркутске на сокрытую могилу «Верховного правителя». Население уверено, что могила эта вблизи насыпи у тюремного рва точно опознана…
В руки большевиков Колчак попал не в честном бою. Он расстрелян был не как военнопленный. Он был в значительной степени предан — я не боюсь употребить это слово — теми, кто шёл с ним так или иначе совместно в деле, которому служил Колчак. Пусть велики будут ошибки «Верховного правителя»! Допустим, что именно эти ошибки привели к крушению государственного режима, им возглавляемого. Но нельзя найти объективного оправдания для действий междусоюзнического командования в дни, когда Колчак был передан новой иркутской власти и без протеста заключён в тюрьму, над которой развевался демократический флаг. Закон общественной и политической морали, гражданская и военная честь были нарушены совершившимся фактом — фактом, пожалуй, небывалым в истории. Слишком мягки слова проф. Пёрса в указанной статье: «До конца Колчак оставался верным русскому народу и союзникам. Были ли они верны ему?»
190
Колчак был тяжело болен. С ним сделался обморок.
191
Иванов Вс. (омский журналист). В гражданской войне. Харбин, 1921, с. 3.
192
Я не знаю, впрочем, были ли эти слова в действительности произнесены.
