Моряна, стр. 37
«А днем моряна штормовала...»
Он распахнул полушубок и глянул вверх: густосинее небо было затянуто сплошной движущейся птичьей массой, словно было задернуто огромнейшим неводом.
«Птица пошла!..»
Дмитрий слышал свист и шипение воздуха, рассекаемого бесчисленными крыльями. Ему казалось, будто небо колышется — то приближается к земле, то удаляется, — так густо неслись на север многотысячные стаи разнообразной птицы.
Звучно кричали гуси.
Высокими голосами перекликалась казара — малый гусь.
С трубными звуками неслись колонны лебедей.
Заунывно плакала утка.
— Скоро и рыба пойдет из Каспия, — растроганно прошептал Дмитрий и вышел на улицу.
Он вспомнил Глушу и Максима Егорыча. «Завтра непременно должны явиться с маяка!» Шел он, широко распахнув полушубок, часто поглядывая на небо. Там, между стаями птиц, дрожали яркие звезды, — они то потухали, то вновь светились, будто далекие огневки в темную ночь на воде.
Совсем низко — Дмитрию казалось, можно было достать рукой — плыла партия белых лебедей, распахивая гигантские, словно паруса, крылья. Шумно шуршали эти полотнища, и резко свистел разрываемый ими воздух.
Призывно звенели гуси, неустанно стонали утки, торжественно трубили лебеди.
Всю эту ночь над приморьем созвучно и стройно гудел диковинный пролетный птичий хор...
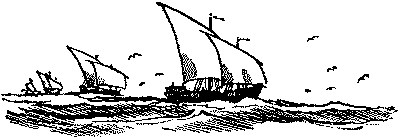
Часть вторая
Глава первая
Целую неделю нещадно била моряна, всю неделю стоголосая стихия неукротимо ревела, шало кружась по приморью, а потом разом оборвалась, канула в камыши...
И когда вышел на берег народ взглянуть на притихший и оттого радостный мир, то у своей посудины уже сидел раньше других дедушка Ваня.
Дедушка, должно быть, чуял, как моряна покоробила ледяной проток и как в разводьях промеж льдов заблестели чернистые воды.
Слышал дедушка и далекие всхлипы перелетной птицы, да только не видел он, как птица эта, исчертив сизое поднебесье, черными вереницами плавно шла на норд, на места гнездовья и размножения, а по ее следу на заштилевшее взморье опускались, покачиваясь, белые пушинки...
Небо, раздвинувшись, отложило в море и в степи грозные лохмотья туч, и вдруг из этой бирюзовой прорвы ударил горячий, ослепительный ливень солнечных лучей; взлохмаченные края туч и в надморье и в надстепье вспыхнули ярким, невиданным пожарищем.
Над Сазаньим протоком качались густые лиловые дымы.
Добрая половина глубьевых морских ловцов была уже в полной готовности к выходу на Каспий: многие еще несколько дней тому назад спустили по каткам на воды жирно засмоленные посудины, перебросили в них на тележках и тачках сети, паруса, продукты. И, собираясь семьями, ловцы поджидали, когда пошире раздадутся проглеи между льдов и потянет береговой попутный ветерок, чтобы вольней вздернуть паруса и удариться от берегов прочь — на глубьевые каспийские пространства — встречать миллионные косяки рыбы.
Но проглеи для прохода морских посудин все еще были узки. От берега на середину ледяного протока уходило только несколько извилистых полосок воды, соединяясь там с другими проглеями, — и все они, казалось, невиданно крупными миногами надолго залегли во льдах. В проглеях ходили волны, и чудилось, что эти гиганты-миноги шевелились, а когда происходила подвижка льда, они тоже двигались, ползли, извивались... По этим ледяным тропинкам ловцы на шестах, осторожно, чтобы не срезать посудины, пробивались к морю, на выкате в Каспий ставили паруса и неслись навстречу рыбным косякам. Но зато, когда вдруг спадал ветер или наотмашь хлестал штормяк, ловцы истово кляли все воды с их обитателями, вплоть до самого морского дна; переругиваясь, они долгое время мотались у берегов.
Так и теперь — ветры не удались: над приморьем властвовал золотистый, застойный штиль. Да и проглеи не раздавались по-настоящему. А по ночам все чаще и чаще сковывал проглеи тонкой коркой льда мороз. Морские ловцы, боясь, чтобы не порезал лед суда, вытаскивали их обратно на берег... И только речные ловцы, да и то особенно рьяные и смелые, шмыгая на махоньких куласах по узким межльдиньям — того и гляди, что срежут свои лодчонки об острые, ребристые ледовые окромки, — поспешно разворачивали лов; одни выбивали сети, другие поднимали улов, а третьи уже гнали переполненные рыбой посудины на приемный пункт...
Дедушка Ваня, невесть когда вступивший во второй век жизни, быстро мчался с Волокушьего протока на утлом, узкогрудом куласе; на корме его лодчонки сидела сгорбленная женщина.
Кулас был налит по самые борта рыбой, и с берега казалось, будто в черную свою посудину дедушка начерпал груду серебра.
Слепой ловец размашисто работал шестом, словно идучи с посохом из дальнего странствия по знакомой тропе; ему, незрячему, все одно — по широкой ли дороге, по широкой ли волне...
Вот он подвел кулас к берегу и, тяжело отдуваясь, сказал сидевшей на корме женщине:
— Ну, Ильинишна, вылазь — тороплюсь на приемку!
Он снял черную лохматую шапку и отер ею лицо; у древнего деда большой, изрезанный толстыми, в палец, складками лоб и точно обмытый маслом желтый череп.
Вслед за дедовым куласом невдалеке двигалась бударка; она часто останавливалась, задевая то бортом, то носом о края льда; видно было, что лодку гонит человек неопытный. Он бестолково скакал с кормы на нос и опять на корму, неуклюже отталкиваясь багром, и лодка неизменно натыкалась на льды, а то становилась бортом поперек проглеи.
Дед повернулся к протоку и, будто видя, как маялся человек с бударкой, пробираясь по проглеям к Островку, ухмыльнулся, а потом опять сурово сказал:
— Вылазь, вылазь, Ильинишна!
К дедову куласу спешили ловцы; в женщине они признали мать Василия Сазана, — она возвращалась с поисков сына.
Не дожидаясь ловецкого чуда, когда унесенную льдину с Василием, возможно, прибьет к берегам, рыбачка уехала за помощью в район и в город.
Первым подошел Сенька; искоса взглянув на Ильиничну и не зная, с чего начать разговор, он неторопливо взял из дедова куласа живую рыбину.
Жирная, с темнофиолетовым отливом, вобла жадно ловила воздух, то и дело открывая влажные красные жабры.
— Хороша воблуха, дедуша, — пробуя на руке вес рыбы, сказал Сенька и снова искоса посмотрел на Ильиничну.
В переполненном куласе шевелилось скользкое вобельное месиво. Сотни рыбин, стараясь выползти друг из-под друга, рвали хвостами воздух, распахивали жабры, таращили серо-голубые глаза, а некоторые, вскидываясь, вымахивали за борт и, недвижно пролежав на воде брюхом вверх секунду-другую, вдруг расправляли плавники и, перевернувшись, мигом скрывались подо льдом.
В руках Сеньки рыбина пружинисто изгибалась, хлестала его махалкой по локтю.
— Воблуха редкостная! — сказал он.
Дед еще раз отер шапкой запотевшее лицо, нахлобучил ее на голый череп и, взяв шест, недовольно сказал, будто видел, что парень держал в руке его добычу:
— Ложи в кулас! — и только тогда оттолкнулся от берега, когда ловец бросил воблу обратно в лодку.
Посудина шумно зашуршала днищем о крошево льда.
Из куласа деда то и дело сигали в проток рыбины, а вот одна стрельнула даже на лед; подпрыгнув несколько раз, она успокоилась и, изогнувшись, застыла.
— Спасибочко, дедушка Ваня!
Ильинична, одернув юбку, нагнулась было за узелком, но ее предупредил Костя Бушлак, — он поднял узелок и подал рыбачке.
— Что слышно, маманя?
Она пристально посмотрела на бурое, заштормованное лицо Кости и тихо, нараспев ответила:
— Была и в городе, была и в районе, сынок... — Ильинична не спеша тыкала то в одну, то в другую сторону жиденьким ивовым посошком. — Дали по чужим берегам клич, чтобы смотрели на относные льдины. А клич-то по этому самому радио пустили, по своей — городской, стало быть, волне. Вот и все, сынок...
