Игра кавалеров, стр. 28
Синие глаза Лаймонда, устремленные на него, сверкнули.
— Почему?
— Потому что она любовница Кормака О'Коннора, — выложил напрямик О'Лайам-Роу ужасную правду.
Лицо Лаймонда уже не выражало досады, но и воодушевление покинуло его. Произошли и другие изменения, но Фрэнсис Кроуфорд опустил голову, и О'Лайам-Роу видел только его темя. Затем Лаймонд заговорил — и не было в его голосе ни торжества, ни каких-либо других человеческих чувств.
— Этого я не знал, известно ли это тебе?
Круг замкнулся. Все смятенные чувства, посеянные в душе ирландца этим самым созданием, что лежало теперь у его ног, заклокотали и прорвались наружу потоком праведного бурно кипящего гнева — гнева оскорбленной невинности, уязвленной гордости и слепоты, что страшится яркого света. О'Лайам-Роу выставил обутую в сапог ногу так резко, что сам чуть не упал лицом вниз, и пинком заставил Лаймонда поднять голову.
— Ты, черт тебя раздери, просто блистаешь умом, — сказал Филим. — Ты все знаешь. Вряд ли, когда выдается у тебя свободный вечерок: дел невпроворот. Люди для тебя что марионетки: не только старые королевы, но и все мы, будь то мужчина, женщина или ребенок, — все, все выглядим перед тобой круглыми дураками.
— Не я вас такими сделал, — отвечал Лаймонд. Его глаза при полном свете казались яркими, словно у какого-то редкостного зверя.
— Ах нет, мой славный, неугомонный мой. Но ты всех нас держишь в руках, каждый привязан за веревочку к твоему мизинцу, а тебе и дела нет, когда ты вертишь нами, чью душу ты можешь ранить. Фрэнсис Кроуфорд все знает об Уне, не так ли? Во всяком случае, достаточно, чтобы она вращалась на тонкой ниточке до потери сознания, пока сам ты перемещаешь всех остальных взад и вперед?
Я пожалел тебя, похабного пьяницу и лентяя. Когда ты решил и меня пожалеть за это? Когда и зачем? Когда использовал как приманку маленькую девочку, играя то с Робином Стюартом, то с О'Лайам-Роу, бросая нас, как бабки из бараньих костей, туда, куда твоя душа пожелает? Я не удивлюсь, — добавил О'Лайам-Роу голосом, хриплым от горечи, — если Робин Стюарт не сегодня-завтра покончит с собой. Маленький ирландский воин в расцвете безумной юности. Ты, словно некий король, пробудил его потоком красивых речей, а твой язык способен пробудить и мертвого… Она хорошо за тобой ухаживала, а? — Невольно он облек в слова самую глубокую свою обиду. — И вы, смеясь, обсуждали свои секреты?
— Она держала меня в особняке Мутье, связанным и одурманенным наркотиками, и ждала, когда приедет Кормак О'Коннор, чтобы решить мою судьбу. Только ярость заставит ее заговорить о своем или его участии.
Глубоко дыша, приподнявшись на локте, Лаймонд отвернул лицо и не двигался.
— И так как теперь ты не можешь употребить меня в роли любовника, то, видимо, решил попробовать пробудить во мне ярость?
Последовала пауза, затем изменившимся голосом Кроуфорд сказал:
— Я обязан исполнить свой долг.
О'Лайам-Роу выругался. Не переставая ругаться, он встал, пошатываясь, пересек комнату, взял шляпу, плащ и сумку, которую Пайдар Доули еще не распаковал, бросил несколько монет на стол и, вернувшись, склонился над лежащей фигурой, скользя взглядом по золотоволосой голове, тонкого полотна рубашке и длинным рейтузам, а Вервассал, не поднимая глаз, рассматривал свои перстни, холодно блестящие на свету, и его холеное лицо, обрамленное дорогими серьгами, казалось совершенно бесстрастным.
— От Робина Стюарта мне было мало радости, как, впрочем, и ему от тебя, но мне не хватит мужества наблюдать, как он завертится холодный, словно рыба, захлебываясь в мощном, величественном потоке, что зовется долгом Фрэнсиса Кроуфорда. Я пойду в Тауэр. Деньги на столе, — стараясь уязвить побольнее, чуть ли не единственный раз в своей жизни, сказал О'Лайам-Роу, — твое содержание за этот вечер — большего я не могу предложить.
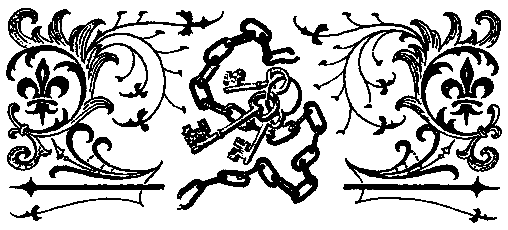
Глава 7
ЛОНДОН: ДАР ГОЛОДАЮЩЕМУ
Тот, кто не приносит дар голодающему, самый недобрый из всех; тому, кто пренебрегает этим, не заплатят ни люди, ни Бог.
Такой человек утратил свое достояние, не обладает ничем зримым и незримым, и все его богатство — только мякина. Ему не дано право на совет ни в болезни, ни в здравии, и ему нечего будет есть до тех пор, пока он не украдет или не продаст тем или иным образом свою честь. Его луга опустеют, и он будет голодать, пока кто-нибудь не подаст ему Христа ради. Его свобода будет тоже ничтожна, как и цена его когда-то доброго имени.
Стюарта поместили в одну из высоких башен, в комнату с толстыми каменными стенами, с окном и камином, так как он был лучником королевской гвардии, политическим узником и гражданином дружественной державы.
О'Лайам-Роу, поднимающемуся по выщербленным ступеням вместе с лейтенантом Маркхэмом, казалось, что от места этого веет не безнадежностью, а скорее поверженным тщеславием: алый дамасский порошок, которым присыпана грязь. Маркхэм что-то бормотал насчет условий заключения.
— Он склонен к самоубийству. На что надеются, чего ждут от меня? Что ж, мне поместить его в будуар? Мне и так пришлось поселить одного из моих лучших стражников в его комнате, не давая тому ни отдыха, ни срока. — Так как О'Лайам-Роу продолжал хранить молчание, лейтенант с раздражением бросил: — Надеюсь, вы по крайней мере преуспеете больше, чем тот человек, которого прислали в прошлый раз. Когда мы вошли в камеру, узник уже вскрыл себе вены. Кровь была повсюду. Тому парню пришлось уйти, даже не взглянув на него, а мы сами разбирались во всей этой кутерьме.
Лаймонд не рассказал о случившемся. Привычная беспечность покинула его, и О'Лайам-Роу погрузился в тяжелое раздумье о том, как сможет он избавить узника от самовлюбленной тени Фрэнсиса Кроуфорда, когда именно разочарование в нем и стало причиной отчаяния Стюарта. Но вот Маркхэм остановился перед дверью и вставил ключ в замок.
Стюарт, как во сне, услышал голоса: так ребенок, лежащий в колыбели, улавливает гомон и смех старших детей, играющих на улице. Он узнал голос О'Лайам-Роу, но был слишком слаб. Уже три дня он отказывался от пищи, а в пятницу потерял чуть ли не половину своей крови. У него теперь не было сил на такую же вспышку ярости, какая охватила его, когда он услышал за своей дверью мягкий, певучий голос Тади Боя Баллаха. От ирландского акцента не оставалось и следа, но он все равно узнал бы этот голос, хоть на краю земли.
После того как он убил Хариссона, ему иногда казалось, что маленький предатель солгал. И Баллах-Лаймонд, безусловно, мертв. Но тот не умер. Потом, когда ему перевязали запястья, а в комнате обосновался хмурый стражник, Стюарт улегся на подоконник и стал смотреть вниз, наблюдая за тем, как они уходят.
Суетящийся Маркхэм вышел первым, затем показалась незнакомая светловолосая голова, отливающая серебром. Оба удалились под деревья. Маркхэм и его стройный спутник — последний, как заметил Робин, с тросточкой в руке. Хромающий человек неожиданно обернулся, и в почти бескровном неожиданно лице, под широким бледным небом, он увидел призрак Тади Боя Баллаха. На минуту ему показалось, что пронзительный взгляд устремлен прямо в его глаза. Но вскоре светловолосый человек, которого Стюарт думал, что отравил, повернулся и твердой походкой отправился восвояси.
Теперь он прислал О'Лайам-Роу, может, чтобы тайно позлорадствовать, а скорее — убедить признаться в том, что он должен был скрыть: Уорвик пообещал ему жизнь именно в обмен на молчание, а возможно, О'Лайам-Роу попытается принудить его жить до тех пор, пока он не понесет достойной кары во Франции. Предложение Уорвика утаить его признание для Стюарта ничего не значило: в любом случае он собирался умереть. Но ему не хотелось делать никаких одолжений О'Лайам-Роу.
