Империя Дикого леса, стр. 32
Она сунула руку в карман и вытащила спрятанный камешек. Он был размером с грецкий орех, гладкий как стекло и белее слоновой кости.
Плющ зашуршал у ног, словно живой.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
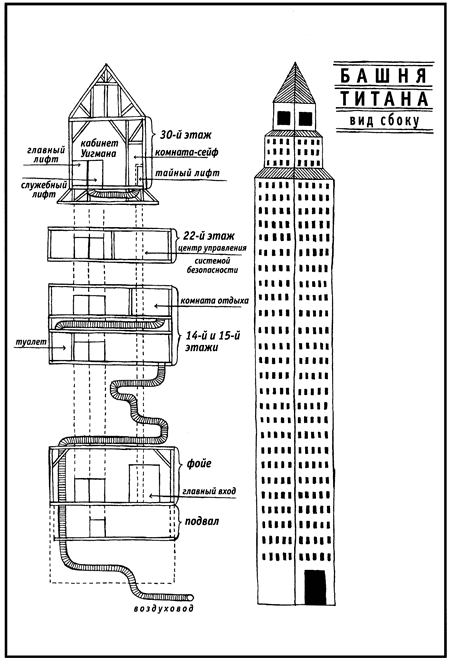
Глава двенадцатая
Пятнадцатое лето
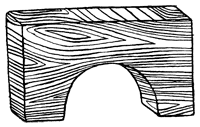
Сначала она не поняла, на что наступила. Подумала, должно быть, садовник обронил какую-нибудь безделицу, садовый инструмент. Нога подвернулась, она на секунду потеряла равновесие и коротко чертыхнулась про себя.
Это был один из тех летних дней, что словно тянутся бесконечно, жара стояла страшная, и с трудом верилось, что трава, пожелтевшая пятнами в местах, где садовник поливал слишком небрежно, не вспыхивает ярким пламенем. Она стояла в саду и пропалывала клумбы с полевыми цветами; солнечные лучи, проникая через щели соломенной шляпки, расцвечивали ее кожу легкими, сияющими веснушками. Точнее, ей казалось, что пропалывала. В какой-то момент мысли затуманились, разум помутился от жары и солнца, она уронила лопату и покачнулась. Тогда она решила, что надо бы выпить стакан воды, и осторожно двинулась в сторону усадьбы, успокоив слуг, которые оторвались было от дел, обеспокоенные здоровьем госпожи.
— Все хорошо, — сказала она. — Это просто жара.
А потом споткнулась, выругалась тихонько и подняла ногу, чтобы посмотреть, на что наступила: но это оказался не потерянный садовый инструмент. Это был игрушечный кубик.
Глядя на забытую деревяшку — видно, бывшую когда-то одним из зубцов крепостной стены или вершиной пирамиды — она вдруг с изумлением осознала, как быстро прошло время. Этот маленький кубик, когда-то столь любимая и незаменимая для ребенка вещь, был теперь не нужнее каких-нибудь обносков, давно переживших ту пору, когда они были в моде. Она подняла его и оглядела, поворачивая туда-сюда в ослепительных лучах солнца.
И тут она услышала его голос.
— Мама! — звал сын, тот самый мальчик, который однажды в далеком прошлом потерял здесь этот столь важный кубик. Его голос теперь звучал глубже, раскрывая зарождающиеся нотки глубокого отцовского баритона, но она по-прежнему слышала в нем голос ребенка, ее мальчика. Она помедлила, не отзываясь; ей хотелось услышать его снова.
— Мама! Ты где? — раздалось чуть громче. Звук доносился с другой стороны усадьбы, оттуда, где тень особняка окутывала крокусы и пожелтевшие цветы обожженных солнцем рододендронов.
— Алексей! — крикнула она в ответ, сложив рупором руки в перчатках. — Я здесь!
И тогда из завесы тени появился ее сын: мальчик пятнадцати лет и четырнадцати зим от роду. Он был одет в нарядный костюм, недавно пошитый и так ловко сидящий на его тонком, красивом стане. Волосы его, как всегда летом, горели красновато-коричневыми искрами, которые растворятся в привычных русо-каштановых волнах, стоит сезону подойти к концу. Она знала все это наизусть; знала каждое время года в его жизни.
Украшения и ленты сняли только вчера, вместе с огромным, в тридцать футов шириной, плакатом «Поздравляем с пятнадцатилетием, Алексей!», который простирался между шпилями-близнецами остроконечных крыш особняка. Подарки прибывали лавиной. Послы отдаленных провинций являлись, казалось, каждые пятнадцать минут и вручали то ежевичную настойку, то деревянные игрушки ручной резьбы, которые мальчик давно перерос; являлись они и с робкими прошениями, которые Григор стоически выслушивал, отводя просящего в сторону и терпеливо кладя руку ему на плечо. Для народа устроили парад, и оркестр играл торжественный марш, а семейство с помоста наблюдало за излияниями всеобщей любви к наследнику престола. Алексей высиживал все это с таким неизбывным терпением, с таким неослабевающим вниманием, что Александра бросала взгляд на сына каждый раз, как чувствовала в груди вспышку скуки; его очаровательное, с правильными чертами лицо, прямой и спокойный взгляд придавали ей сил. Из него должен был выйти отличный губернатор-регент. В этом не было никаких сомнений.
Когда площадь опустела, а июльское солнце вышло из зенита и начало клониться к зеленым холмам далеко на западе, настал заветный час. Вернувшись в усадьбу, где суетились слуги, подготавливая все к вечернему торжеству, Григор позвал сына с собой к каретному сараю, якобы помочь в каком-то скучном деле. Алексей, хоть голос его уже выдавал накопившуюся за день усталость, бодро согласился, и оба вышли в парадные двери. Со двора до Александры донеслось громкое восклицание сына — и в этом тоненьком вскрике прозвучало еще не до конца покинувшее его детство. Она торопливо подошла к окну, чтобы посмотреть, как начальник конюшен при сияющем гордостью Григоре подводит мальчику его первую собственную лошадь — угольно-черную кобылу с ослепительно-белой звездой между карих глаз.
Что ж: вот он. Пятнадцатилетний мальчик. Уже больше не ребенок. Юноша. Почти взрослый. Будущий мужчина. Политик. Государственный деятель. Муж. Отец. Ее сын.
— Мама! — снова позвал мальчик. — Я хотел покататься на Чернушке, но папа сказал, что сначала нужно спросить у тебя.
— Неужели? — вскинула она брови, забавляясь. Жара отступила. Стакан воды показался абсолютно ненужным. Появление мальчика освежило ее. — Так и сказал?
Алексей знал эту игру:
— Да, так и сказал. А я сказал, что спрошу. И вот я здесь.
— И?
— И… — Алексей улыбнулся шире. — Можно?
— Ты говорил с мистером Купером? — это был начальник конюшен.
— Нет, но папа сказал, что его можно попросить, если он не очень занят.
— А алгебру сделал?
Улыбка исчезла, сменившись лукавым выражением лица:
— Да, мама. Мисс Брайтон говорит, что я справился довольно удачно.
— Довольно?
— Так она сказала, — он помедлил, гадая по лицу матери. — Это ведь хорошо, правда?
Александра постаралась сдержать материнскую заботу:
— А отец сказал, что можно?
— Да, — сказал Алексей и немного расслабился, видя, что шансы внезапно возросли. — Он сказал, что можно, но надо спросить у тебя.
— Что ж, хорошо, — согласилась Александра. — Поговори с мистером Купером. Если он не слишком занят.
Мальчик просиял.
— Да, мама! — внезапный энергический порыв буквально подбросил его в воздух, и он молнией понесся на другую сторону усадьбы.
Александра окликнула сына по имени. Мальчик, только-только достигнув тени дома, остановился. Тогда она что-то сказала ему — что-то, что никак не могла вспомнить потом, позже, когда снова и снова проигрывала всю сцену в мыслях, как закольцованную пленку. Тот момент, когда мальчик ступил в тень, каждый раз обрывался, плавно и безупречно сливаясь с картинкой, которая ему предшествовала — с тем, как он вышел к ней из убежища той же самой тени. Она что-то ему сказала: быть может, пару слов предостережения, знак материнской заботы, надеясь, что он унесет их с собой, как амулет, хранящий от беды. Или что-то неважное? Бессмысленное требование, напоминание, что подобные радости всякий раз нужно заслужить прилежным трудом. Ответа так и не нашлось. Позже она пыталась силою мысли вылепить из этого тумана, из странного темного пятна в ее памяти простое утверждение: она сказала, что любит его. Что он для нее — все. Но он исчезал, и кадры начинались снова — жара, солнце, кубик под ногой, звук его голоса.
Потому что больше ничего не было.
Пожалуй, бессмысленно и вспоминать.
Она стоит в садовом чулане и стягивает с рук перчатки. Вешает соломенную шляпу на крючок. Что-то коротко говорит главному садовнику. Вспоминает про стакан воды. Открывает заднюю дверь, проходит через застекленный зимний сад по черно-белым клеткам пола в фойе. Здоровается со служащим, занятым работой. Входит в кухню, тихо кивает прислуге, стараясь быть незаметной. Подставляет пустой стакан под кран. И тут: крик со двора, громкий крик, доносится через окно. Поднимает глаза и видит, как взбесившаяся вороная лошадь встает на дыбы. Мистер Купер пытается удержать поводья.
