Однажды, вдруг, когда-нибудь…, стр. 19
И второй раз громыхнул наган, почти сразу же, без перерыва, и вторая пуля достала второго парня.
Старик Леднёв не обманывал. Он отлично стрелял, необидчивый дуэлянт, меткий истребитель адъютантских аксельбантов. У него была твёрдая рука, как принято писать, и точный глаз. Но молодость оказалась чуть быстрее. И третий офицерик, уже не улыбаясь, но оскалив в беззвучном крике рот, выхватив из кобуры воронёный браунинг, опередил третий выстрел профессора. Он стрелял ещё и ещё раз, расстрелял всю обойму. Даже мёртвый старик Леднёв казался страшным ему.
Игорь, бессильный что-либо сделать, судорожно вздохнул и почувствовал, что не может дышать, как тогда, на Кутузовке, после удара в солнечное сплетение. Он присел на корточки — тоже, как тогда, — пытался вдохнуть, втиснуть в себя горячий и твёрдый воздух и не мог, не мог, и слёзы текли по щекам, оставляя на них грязные сероватые дорожки. И тогда он бежал из прошлого.
16
Он бежал из прошлого, потому что оно окончилось для него вместе с гибелью Пеликана и профессора. Особенно — профессора, к которому привык, притёрся. Полюбил. Больше ничто не связывало его со временем, которое он сам для себя выбрал, сам придумал, сам выстроил — по событию, как по кирпичику.
Прошлое, в которое путешествовал Игорь, было до мельчайших подробностей похоже на реальное, случившееся, возможно, в действительности в начале осени восемнадцатого года. Но, рождённое чужой памятью, оно было откорректировано воображением. А воображения Игорю хватало. Знаний, правда, маловато, книжные всё больше, да уж какие есть…
Но странная вещь! Оно, это прошлое, само себя корректировало, выходило из повиновения, жило по своим законам — законам времени, а значит, и было реальным, как ни крути. Парадокс! Нереальное реально, а реальное нереально…
Что было, что придумано — какая, к чёрту, разница, если на брусчатой мостовой прилизанной барской улочки остались лежать два близких Игорю человека, которых его воображение хотело видеть живыми! Чья это, скажите, прихоть, что они погибли? И прихоть ли? А может, это и есть жизнь, которую не подправить никаким воображением?…
Короче, кончилось для Игоря прошлое, и точка…
Воскресенье на дворе. Воскресенье — день веселья, как в песне поётся. А другой поэт, напротив, заявил: для веселья планета наша мало оборудована. Кому верить?…
И хотя сейчас Игорю больше всего хотелось лечь в постель, накрыться с головой одеялом, не видеть никого, не слышать, не спать — просто лежать в душной пододеяльной темноте, как в детстве, и ни о чём не думать, он всё-таки снял телефонную — тяжёлую, как гиря, — трубку и набрал Настин номер.
Она откликнулась сразу, с первого звонка, будто ждала у своего алого аппарата, руку над трубкой держала.
— А не пойти ли нам погулять? — спросил Игорь тем фальшиво-бодрым тоном, каким говорят с больными, убеждая их в том, что здоровы они, здоровее быть не может.
Кого он в том убеждал? Себя, что ли?… И Настя, умная маленькая женщинка, заметила это, несмотря на километры проводов, их разделяющих.
— Что-нибудь случилось, Игорь?
Как ответить?…
— Не знаю, Настя, наверно, случилось. И вдруг ясно понял, что не может больше держать в себе свою боль, что должен поделиться ею с кем-то, кто воспримет её, эту боль — ну, пусть не как собственную, но как близкую, почти ощутимую. И этим «кем-то» станет Настя, только она — ещё совсем незнакомая, дальняя, никакая, но странно притягивающая. А, собственно, почему «странно»? Ничего тут странного нет. Игорь, во всяком случае, не видел…
— Приезжай, — сказала она.
Что он мог рассказать ей? Как уходил в другую жизнь и пытался жить ею? Как шёл мимо этой жизни — любопытный пришелец, только летающей тарелочки не хватало? Как нагло влез в чужое прошлое, в чужую память, попытавшись оборотить её своей? Странник…
Во всяком случае, ничего не скрыл. Всё рассказал, не упуская подробностей.
Поверила ли Настя ему? Игорь ставил себя на её место и усмехался: он бы ни за что не поверил, счёл бы рассказчика психом ненормальным, вызвал бы дюжих санитаров из психбольницы — пусть-ка они послушают… А Настя поверила?…
Да наплевать ему было на то с высокой колокольни! Поверила — не поверила… Ему душу вывернуть требовалось, повесить для просушки — не для всеобщего обозрения, но лишь для неё одной, для Насти. Главное, он ей верил…
Но вот забавно: она кресло в испуге не отодвигала, на дверь не косилась, к телефону не рвалась — звонить в психбольницу. Слушала внимательно, даже, казалось Игорю, сочувственно, а когда про гибель Леднёва говорил — почудилось или нет? — но, похоже, глаза её на мокром месте были.
Закончил. Помолчали. Игорь в окно глядел, погода портилась, небо облаками затянуто, вот-вот дождь пойдёт.
Настя спросила тихонько, как через силу:
— Чужая память… А чья, чья?…
— Я тебе говорил; деда. Это он в восемнадцатом году шёл из Ростова в Москву, я не врал прошлый раз.
— И профессор у него был?
— И профессор и Пеликан.
— И тоже погибли?
— Не знаю. Его записи обрываются как раз на том месте, где они в город пришли, в дом к Софье.
— Он не дописал?
— Отец говорил; дописал. Но то ли потерялось остальное, то ли дед сам уничтожил, но нет конца, и всё тут.
— А отец ничего не рассказывал?
— Отцу что… Он технарь, кроме своих гаек-винтиков, ничего не признаёт.
— Как же тогда вышло, что они погибли? Ведь не было этого, не было! Чужая память молчит…
— А моя? — тихо спросил Игорь. И это, пожалуй, было ответом. На спрошенное и неспрошенное. На всё.
— Ты сейчас так говоришь… — Настя подошла к нему совсем близко, её дыхание касалось его лица. — Ты сам не веришь в то, что говоришь. Странник… — Она словно подслушала мысль Игоря. — Ты не сможешь не вернуться туда… — И приподнявшись на цыпочки, легко-легко поцеловала в губы.
А волосы её почему-то пахли дымом.
Как мало надо человеку! Ничего, по сути, не было сказано Настей, ни-че-го… А ощущение — будто тебя поняли и приняли. Говоря казённым языком, встали на твою позицию.
Какова она, твоя позиция? Стороннего наблюдателя?…
Поздно засиделся, дотемна, опять родители волноваться станут, позвонить им из автомата…
А навстречу — из темноты:
— Вот и дождались тебя, Игорёк. Теперь ты без помощников обойдёшься?
То ли далёкий — метрах в двадцати — тусклый фонарь качнулся под ветром, то ли окно на третьем этаже загорелось, но почудилось Игорю, словно на куртках вежливых улыбчивых мальчиков что-то серебряное сверкнуло.
— Обойдусь, — сказал он и, нагнувшись, поднял с асфальта тяжёлый обломок кирпича.
17
У него впереди была долгая, долгая дорога. Пыльными трактами, лесными тропинками, горькими холодными деревнями — путём своей памяти.
Чужой не было. Дед, легендарный в семье человек, знакомый Игорю только по фотографиям, — где он бравый и молодой, с боевым орденом на груди, дед-летописец, так и не дописал своей истории. Не захотел. Или, как сказано, уничтожил написанное. Почему? Память ему мешала?…
Выпало Игорю дописать, досказать, дойти. Довообразить то, чего не было.
Не было? Было?
Трётся за пазухой, царапает сургучом кожу на животе перевязанный суровой ниткой пакет.
Сидит Пеликан в подполе, пряники жуёт…
Долгая, долгая дорога впереди.
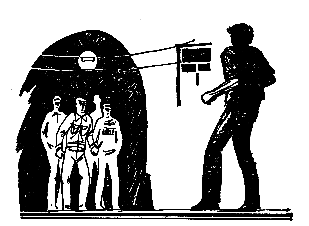

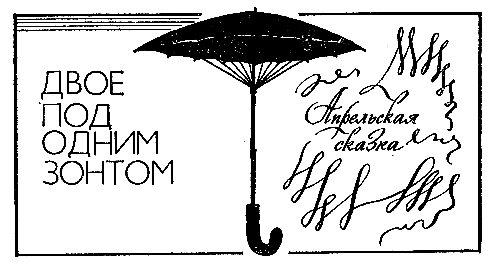
Двое под одним зонтом
1
Ночь и дождь, ночь и ветер — мокрый и колкий, забытый зимой в этом насквозь продрогшем апреле, в этом фальшивом апреле, который даже и не притворяется серединой весны. Впрочем, днем еще туда-сюда: солнце проглянет иной раз, чуть согреет ветер «умеренный до сильного», а уж ночью…
