Ярмарка теней (сборник), стр. 39
Открытие
Космическая ДНК возвращает человеку полную вещественную память, накопленную в течение его жизни.
«Да, это так. Человек может вспомнить, что он прочел, увидел, перечувствовал. Так академик Кузовкин превратился в юного гения в том возрасте, когда некоторые начинают впадать в старческий маразм. Но, очевидно, все же память восстанавливается не сразу, а по принципу: главное — сначала, ярче, убедительнее; второстепенное — потом, не так остро, не столь явственно. Иначе человек захлебнулся бы в потоке воспоминаний. Но Рита, Рита… Ей, конечно, лучше было бы восстановить память в целом или еще лучше не восстанавливать ее совсем, чем носить перед своим мысленным взором этот ужасающий миг. Она погибла из-за препарата, который сделал Кузовкина гением.
В ее дневнике есть фраза: «Боже мой, и я еще хотела что-то записывать!» В ней умещается все необычайное и ужасное в этой странной истории. И все недосказанное об Артуре умещается в ней…»
Добро или зло?
«Закрепление химической памяти… Возможность быстро усваивать и запоминать намертво! Шутка ли… — Это позволит сократить обучение, резко ускорит общечеловеческий прогресс. Революционизирует методы хранения и распространения знаний. Избавит человечество от всяких информационных катастроф… Но смогут ли люди жить, ничего не забывая? Вот, допустим, я и Вера. Нам нужно очень многое забыть, иначе… Что иначе? И зачем нам нужно хоть что-то забывать? — Второв с удивлением ощутил в себе непривычную ясность. Он избавился от какой-то смутной тоски в груди. Все было просто в его отношении к Веронике. Теперь он _знал_ то, что чувствовал всегда. Они были и остались чужими друг другу людьми. Оставалось только повторить это ей, повторить то, что было сказано много лет назад с надрывом, болью и обидой. Повторить спокойно и просто, осторожно, бережно, чтобы не причинить лишней боли. Нет, ничего не надо было забывать! И он вновь стал думать о Рите. — Рита, которая не сумела забыть! Артур? Здесь все не просто, все двояко. И кто возьмет на себя ответственность за выбор, за синтез pro и contra? И про катастрофы нельзя забывать, про цепную реакцию в кварк-нейтринном потоке… Но это же управляемая реакция! Все дело только в режиме. Год работы, и вопрос будет решен. Так и напрашивается мысль, что это чья-то подсказка! Память — это власть над временем… Здесь стоит подумать. Крепко подумать… И, собственно, даже неправомерно ставить такую альтернативу: добро или зло. Нужно, чтоб было добро! И это зависит от нас, людей. Как мы захотим, так и будет. Природе ведь чужды такие понятия, как зло и добро. Все только в руках человеческих. И в моих руках тоже. Но не слишком ли я самонадеян? Умещается ли в мою жесткую схему вся противоречивая эволюция его гениальной идеи? Продолжатели будут отталкиваться уже от моих выводов. Они не вернутся к запутанной трагедии Кузовкина. Может, не торопиться, еще подумать? А подумать есть о чем! Здесь ведь не только проблемы информации. Но (предположительно, правда) и раскрытие необычайных возможностей человеческого организма. И, не исключено, новых тайн материи! Да, есть о чем подумать…»
Второв почувствовал, что, подобно набирающему высоту самолету, выходит на новый круг. Все, что обступало его, тревожило, показалось далеким и вместе с тем удивительно ясным. Четким и просветленным. Безумная ярмарка теней, не затихавшая в его мозгу даже ночью, внезапно кончилась. Стало совсем светло.
Он взял телефонную трубку и, дождавшись гудка, набрал номер Падре.
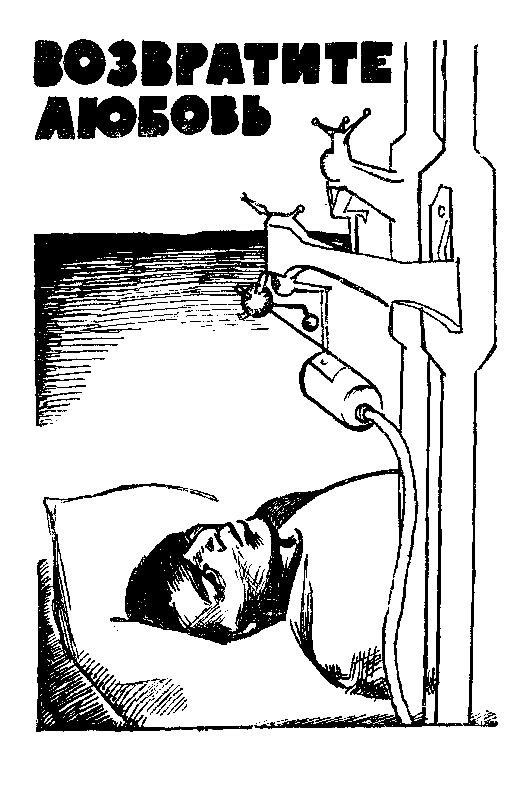
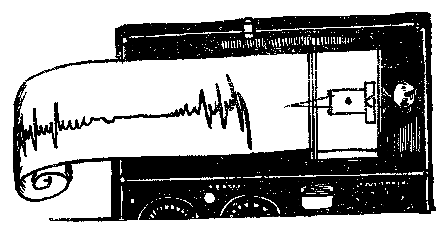
ВОЗВРАТИТЕ ЛЮБОВЬ
Весь офицерский, сержантский и рядовой состав получат эрзац-копии своих возлюбленных. Они их больше не увидят. По соответствующим каналам эрзац-образцы эти могут быть возвращены.
Алые звездочки — на свежую стружку. Кап-кап-кап… Бартон нагнулся, чтобы не испачкаться. Теплые струйки побежали веселее. Наступило какое-то сладковатое изнеможение. В голове застучал дизель, к горлу подступила тошнота.
Он опустился на колени и осторожно прилег. Перевернулся на спину и уперся подбородком в небо. Как можно выше, чтобы остановить кровь. Во рту сразу же стало терпко и солоно. Голубой мир тихо закружился и поплыл. Он еще чувствовал, засыпая, пыльную колючую травку, и острые стружки под руками, и подсыхающую кровь на верхней губе. Но сирены уже не услышал.
Подкатила санитарная машина. Его осторожно положили на носилки и повезли. Еще в пути сделали анализ крови, измерили температуру, подсчитали слабые подрагивания пульса.
Когда через четыре часа Аллан Бартон очнулся в нежно-зеленой палате военного госпиталя, диагноз был таким же определенным, как и постоянная Больцмана: «острый лучевой синдром». Впрочем, чаще это называли просто лучевой болезнью или белой смертью, как выражались солдаты охраны.
В палате стояла пахнущая дезинфекцией тишина. Изредка пощелкивали реле регулировки температуры и влажности и сонно жужжал ионоозонатор.
— Он не мог облучиться. Ручаюсь головой. — Эти слова майор медицинской службы Таволски повторял как заклинание. — Последние испытания на полигоне были четыре дня назад. Я сам проводил контроль людей после. У Бартона, да и у остальных тоже, разумеется, все оказалось в порядке. Вот в этом блокноте у меня все записано. Здесь и Бартон… Двадцать шестого июля, одиннадцать часов… показания индикатора — норма. А после ничего не было.
— А он не ходил на полигон потом? — спросил главный врач.
— Это был бы законченный идиотизм!
— Вы полагаете, что именно эту причину мне следует назвать генералу? Главврач иронически поднял бровь.
— А ведь нас с вами это не касается. Пусть сам доискивается.
— Я уверен, что в этот момент он уже создает следственную комиссию.
— Совершенно согласен, коллега. Скажу вам даже больше: именно в этот момент он включает в комиссию вас.
Таволски достал сигареты, и главврач тотчас же нажал кнопку вентилятора.
— Что вы уже предприняли? — спросил главврач, устало вытягивая вперед большие, с набухшими венами руки.
— Ввел двести тысяч единиц кипарина… Ну, температура, пульс, кровяное давление…
— Нужно будет сделать пункцию и взять срез эпидермы.
— Разумеется. Я уже распорядился. Если бы знать, что у него поражено! Можно было бы попытаться приостановить циркуляцию разрушенных клеток.
Главврач молча кивал. Казалось, он засыпает. Тяжелые веки бессильно падали вниз и медленно приподнимались.
— Когда вы сможете определить полученную дозу? — Вопрос прозвучал сухо и резко.
— Через несколько дней. Когда станет ясна кинетика падения белых кровяных телец.
— Это не лучший метод.
— А что вы можете предложить?
Главврач дернул плечом и еще сильнее выпятил губу.
— Надо бы приставить к нему специального гематолога. А?
— Разве что Коуэна?
— Да, да. Позвоните ему. Попросите от моего имени приехать. Скажите, что это ненадолго. Не очень надолго.
— То есть… вы думаете?… — тихо спросил Таволски.
— Такое у меня предчувствие. Я на своем веку насмотрелся. Плохо все началось. Очень плохо.
— Но ведь это только на пятый день!
— Тоже ничего хорошего. — Главврач покачал головой. — Какая у него сейчас температура?
— Тридцать семь ровно.
— Наверное, начнет медленно повышаться… Ну да ладно, там увидим. — С видимым усилием он встал из-за стола и потянулся. — А Коуэну вы позвоните. Сегодня же. А теперь пойдемте к нему. Хочу его еще раз посмотреть.
1 августа 19.. года. Утро. Температура 37,1. Пульс 78.
Кровяное давление 135/80
Бартон проснулся уже давно. Но лежал с закрытыми глазами. Он уже все знал и все понимал. Еще вчера к нему в палату поставили батарею гемоцитометрических камер. Если дошло до экспресс-анализов, то дело плохо. Кровь брали три раза в день. Лаборанты изредка роняли малопонятные фразы: «Агглютинирующих сгустков нет», «Показались метамиэлоциты».
