История одного города. Господа Головлевы. Сказки, стр. 180
— И я тоже. Да только куда с двумя пятишницами повернешься?
— Тут и в пир, и в мир, а отец велел сказать, что какая-то старая недоимка нашлась, так понуждают. Пожалуй, и все туда уйдет.
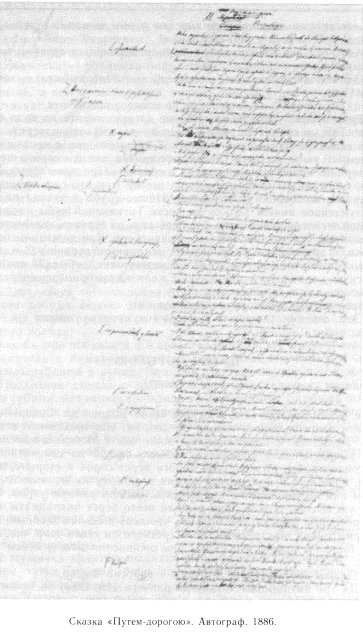
— А у нас и хлеба-то до нового не хватит. Пришел сенокос, руки-то целый день намахаешь, так поневоле есть запросишь. Ничего-то у нас нет, ни хлеба, ни соли, а тоже людьми считаемся. Говорят: «вы каменщики, в Москве работаете, у вас должны деньги значиться…» А сколько их и по осени-то принесешь!
— Худо наше крестьянское житье! Нет хуже.
— Чего еще!
Путники вздохнули и несколько минут шли молча.
— Что-то теперь наши делают? — опять начал Федор.
— Что делают! Чай, навоз вывезли; пашут… и пашут, и боронят, и сеют; круглое лето около земли ходят, а все хлеба нет. Сряду три года то вымокнет, то сухмень [235] высушит, то градом побьет… Как-то нынче господь совершит!
— А у меня, брат, и еще горе. К Дуньке волостной старшина увязался; не дает бабе проходу, да и вся недолга. Свах с подарками засылает; одну батюшко вожжами поучил, так его же на три дня в холодную засадили.
— И ничего не поделаешь! Помнишь, как летось Прохорова Матренка задавилась? Тоже старшина… Терпела-терпела, да и в петлю…
— Нам худо, а бабам нашим еще того хуже. Мы, по крайности, в Москву сходим, на свет поглядим, а баба — куда она пойдет? Словно к тюрьме прикованная. Ноги и руки за лето иссекутся; лицо словно голенище черное сделается, и на человека-то не похоже. И всякий-то норовит ее обидеть да обозвать…
— Давай-ка, Федя, песню с горя споем!
Стали петь песню, но с горя и с устатку как-то не пелось.
— А что, Иван, я хотел тебя спросить: где Правда находится? — молвил Федор.
— И я тоже не однова спрашивал у людей: «Где, мол, Правда, где ее отыскать?» А мне один молодой барин в Москве сказал, будто она на дне колодца сидит спрятана.
— Ишь ведь! Кабы так, давно бы наши бабы ее оттоле бадьями вытащили, — пошутил Федор.
— Известно, посмеялся надо мной барчук. Им что! Они и без Правды проживут. А нам Неправда-то оскомину набила.
— Старики сказывают, что дедушко Еремей еще при старом барине все Правды искал; да Правда-то, вишь, изувечила его.
— Прежде многие Правду разыскивали; тяжельше, стало быть, жить было, да и сердце у стариков болело. Одна барщина сколько народу сгубила. В поле — смерть, дома — смерть, везде… Придет крестьянин о празднике в церковь, а там на всех стенах Правда написана, только со стены-то ее не снимешь.
— Это правда твоя, что не снимешь. Что крестьянин? Он и видит, да глаз неймет. Темные мы люди, бессчастные; вздохнешь да поплачешь: «Господи, помилуй!» — только и всего. И молиться-то мы не умеем.
— Прежде ходоки такие были, за мир стояли. Соберется, бывало, ходок, крадучись, в Петербург, а его оттоле по этапу…
— Все-таки прежде хоть насчет Правды лучше было. И старики детям наказывали: «Одолела нас Неправда, надо Правды искать». Батюшко сказывал: «Такое сердце у дедушки Еремея было — так и рвется за мир постоять!» И теперь он на печи изувеченный лежит; в чем душа, а все о Правде твердит! Только нынче его уж не слушают.
— То-то, что легче, говорят, стало — оттого и Еремея не слушают. Кому нынче Правда нужна? И на сходке, и в кабаке — везде нонче легость…
— Прежде господа рвали душу, теперь — мироеды да кабатчики. Во всякой деревне мироед завелся: рвет христианские души, да и шабаш.
— Возьмем хоть бы Василия Игнатьева — какие он себе хоромы на христианскую кровь взбодрил. Крышу-то красную за версту видно; обок лавка, а он стоит в дверях да брюхо об косяк чешет.
— И все к нему с почтением. Старшина приедет — с ним вместе бражничает, долги его прежде казенных податей собирает; становой приедет — тоже у него становится. У него и щи с убоиной, и водка. Летось молодой барин из Питера приезжал — сейчас: «Попросите ко мне Василия Игнатьича!..» — «Ну что, Василий Игнатьич, все ли подобру-поздорову? хорошо ли торгуете?»
— Чайку вместе попьемте… вы, дескать, настоящий добрый русский крестьянин! печетесь о себе, другим пример показываете… И ежели, мол, вам что нужно, так пишите ко мне в Петербург.
— Одворицу [236] выкупил да надел на семь душ! Совсем из мира увольнился, сам барин.
— А теперь мир ему в ноги кланяется, как придет время подати вносить. Миром ему и сенокос убирают, и хлеб жнут…
— Вот так легость! Нет, ты скажи, где же Правду искать?
— У бога она, должно быть. Бог ее на небо взял и не пущает.
Опять смолкли спутники, опять завздыхали. Но Федор верил, что не может этого статься, чтобы Правды не было на свете, и ему не по нраву было, что товарищ его относится к этой вере так легко.
— Нет, я попробую, — сказал он. — Я как приду, так сейчас же к дедушке Еремею схожу. Все у него выспрошу, как он Правду разыскивал.
— А он тебе расскажет, как его в части секли, как по этапу гнали да в Сибирь совсем было собрали, только барин вдруг спохватился: «Определить Еремея лесным сторожем!» И сторожил он барские леса до самой воли, жил в трущобе, и никого не велено было пускать к нему. Нет уж, лучше ты этого дела не замай!
— Никак этого сделать нельзя. Возьми хоть Дуньку: как я приду, сейчас она мне все расскажет… Что ж я столбом, что ли, перед ней стоять буду? Нет, тут и до смертного случая недалеко. Я ему кишки, псу несытому, выпущу!
— Ишь ведь! Все говорил об Правде, а теперь на кишки своротил. Разве это Правда? знаешь ли ты, что за такую Правду с тобой сделают?
— И пущай делают. По-твоему, значит, так и оставить. «Приходите, мол, Егор Петрович: моя Дунька завсегда…» Нет, это надо оставить! Сыщу я Правду, сыщу!
— Ах ты, жарынь какая! — молвил Иван, чтобы переменить разговор. — Скоро, поди, столб будет, а там деревнюшка. Туда, что ли, полдничать пойдем или в поле отдохнем?
Но Федор не мог уж угомониться и все бормотал: «Сыщу я Правду, сыщу!»
— А я так думаю, что ничего ты не сыщешь, потому что нет Правды для нас: время, вишь, не наступило! — сказал Иван. — Ты лучше подумай, на какие деньги хлеба искупить, чтобы до нового есть было что.
— К тому же Василию Игнатьеву пойдем, в ноги поклонимся! — угрюмо ответил Федор.
— И то придется; да десятину сенокоса ему за подожданье уберем! Батюшко, пожалуй, скажет: «Чем на платки жене да на кушаки третью пятишницу тратить, лучше бы на хлеб ее сберег».
— Терпим и холод, и голод, каждый год все ждем: авось будет лучше… доколе же? Ин и в самом деле Правды на свете нет! Так только, попусту, люди болтают: «Правда, Правда…» — а где она?!
— Намеднись начетчик один в Москве говорил мне: «Правда — у нас в сердцах. Живите по правде — и вам, и всем хорошо будет».
— Сыт, должно быть, этот начетчик, оттого и мелет.
— А может, и господа набаловали. Простой, дескать, мужик, а какие речи говорит! Ему-то хорошо, так он и забыл, что другим больно.
В это время навстречу путникам мелькнул полусгнивший верстовой столб, на котором едва можно было прочитать: «От Москвы 18. от станции Рудаки 3 версты».
— Что ж, в поле отдохнем? — спросил Иван. — Вон и стожок близко.
— Известно, в поле, а то где ж? в деревне, что ли, харчиться? Товарищи свернули с дороги и сели под тенью старого, накренившегося стога.
— Есть же люди, — заметил, Иван, снимая лапти, — у которых еще старое сено осталось. У нас и солому-то с крыш по весне коровы приели.
Начали полдничать: добыли воды да хлеб из мешков вынули — вот и еда готова. Потом вытащили из стога по охапке сена и улеглись.
— Смотри, Федя, — молвил Иван, укладываясь и позевывая, — во все стороны сколько простору! Всем место есть, а нам…
БОГАТЫРЬ [237]
В некотором царстве Богатырь родился. Баба-яга его родила [238], вспоила, вскормила, выходила, и когда он с коломенскую версту вырос, сама на покой в пустыню ушла, а его пустила на все четыре стороны: "Иди, Богатырь, совершай подвиги!"
235
Сухмень — знойная сухая погода без дождей, засуха.
236
Одворица — участок под избу и хозяйственные постройки.
237
--
Впервые: Красный архив. 1922. № 2. С. 227–228 (публ. А. Е. Грузинского). Сохранилась наборная рукопись сказки (рукой Е. А. Салтыковой), с авторской правкой и подписью (ЦГАЛИ). В тексте рукописи, полностью совпадающем с публикацией в "Красном архиве", зачеркнуто Салтыковым два варианта.
С. 164, строка 20 сверху. После слов: "храпы кругом на сто верст путает" — в рукописи было: "И славы оттого для родной стороны никакой нет".
С. 165, строка 11 сверху/ После слов: "туловище вплоть до самой шеи отъели" — в рукописи было: "и в голове черви кишмя кишат".
Замысел сказки возник во второй половине июля-августе 1885 г. в Висбадене, где и сделаны первые ее наброски. Однако в связи с болезнью Салтыкова работа над сказкой была приостановлена, видимо, в самом начале. Писателя, как вспоминает Н. А. Белоголовый, больше всего «угнетало то, что он не мог написать задуманную сказку «Богатырь», каждый день садился он к письменному столу, писал несколько строк, но тотчас же зачеркивал; он жаловался, что не может подбирать выражений для своей мысли, хотя скелет сказки лежал совсем готовый в голове» (М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. 2-е изд. М., 1975. Т. 2. С. 253). Лишь через год, в июне 1886 г., на даче Новая Кирка (в Финляндии) писатель вернулся к оставленному замыслу: «Салтыков немного ожил опять, — сообщал Белоголовый П. Л. Лаврову 1 июля 1886 г., — даже продиктовал жене новую сказку «Богатырь», план которой он сообщил мне еще в прошлом году в Висбадене; мысль в основании лежала весьма пикантная, не знаю, удалось ли ему развить ее теперь с прежним остроумием» (ЦГАЛИ, ф. 285). Упоминаемый в письме к Лаврову план сказки, относящийся к раннему варианту замысла и в существенных чертах не соответствующий ее окончательной редакции, в воспоминаниях Белоголового изложен следующим образом: «Родился богатырь, здоровенный, голос, как труба, растет в люльке не по дням, а по часам, и все ждут с радостной надеждою: что из него выйдет, когда он вырастет? Вот уж он вышел из люльки и все растет и здоровеет, подрос так, что пора бы уж ему из дому на вольный воздух, а он все сидит и только растет да изумляет свою семью страшной силой. Наконец однажды он встал, потянулся и вышел из дому, родные и знакомые следовали за ним вдали с смутным трепетом радостной надежды, повторяя себе: «Идет, идет богатырь! Ну что он теперь натворит?» Богатырь прямо пошел в близлежащий лес, идет, играючи выворачивает огромные деревья, а толпа, следующая сзади, дивится силе и говорит: «Ну что-то дальше будет?» А богатырь дошел до огромного дупла, остановился, посмотрел внутрь, залез в него, свернулся калачиком и уснул. Долго стояла толпа вокруг дупла в благоговейном ожидании, что сон этот будет непродолжителен, и говорила всем: «Тише, тише, спит богатырь, не будите». Однако, простоявши так немалое время и видя, что богатырь не просыпается, разошлись по своим делам, говоря шепотом: «Тише, тише, не будите, спит богатырь». Пришли вечером, смотрят: все спит богатырь, и храп его стоит по лесу; пришли назавтра — то же самое, да так он и спит все по сие время» (М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 254). Из воспоминаний Белоголового следует, что первоначальный замысел сказки претерпел существенные изменения. В образе спящего богатыря сатирик намеревался изобразить народ, пребывающий в состоянии пассивности. В окончательной же редакции богатырь с отъеденным гадюками туловищем — это самодержавие. В данном случае слову «богатырь», в противоположность его народно-эпическому значению, писатель придал иронический смысл ради развенчания векового предрассудка, приписывающего монарху могущественную силу и доблести защитника слабых.
В сказке «Богатырь» в предельно сжатом виде вновь поднята тема об отношениях самодержавия и народа (богатырь и людишки), ранее наиболее полно разработанная в «Истории одного города». Пафос этого небольшого произведения заключается в разоблачении слепой веры «людишек», терпевших жестокие беды, в мнимого богатыря, который в действительности равнодушен к их судьбам и вообще ни к какой сознательной деятельности не способен. Исторический опыт, по убеждению сатирика, приведет народные массы к сознанию, что от царя ждать помощи нечего, и тогда народ собственной силой отбросит самодержавие, как гниющий труп.
Салтыков предполагал напечатать сказку в «Русских ведомостях». 28 июня 1886 г. вместе со сказкой «Гиена» он отправил «Богатыря» Соболевскому: «Ежели Вы найдете возможным поместить их по достоинству и по цензурным соображениям, то поместите (…) — писал он в сопроводительном письме. — Если же нет, то возвратите их мне поскорее, я постараюсь сбыть их в другое место» (XX, 253). Узнав о сомнениях Соболевского относительно цензурного характера сказок «Гиена» и «Богатырь», Салтыков 6 июля писал ему: «Во всяком случае повторяю мою просьбу: ежели сказки Вам не годятся, то прислать их мне…» (XX, 260). Тем не менее Соболевский, не решаясь печатать сказку и не смея огорчать писателя прямым отказом, продержал ее у себя до начала сентября. «Я просил бы Вас, кроме «Богатыря» не печатать еще и «Гиену», но, пожалуйста пришлите мне оригинал обеих сказок. Я их напечатаю в книге, которая уже начата в типографии набором», — писал Салтыков Соболевскому 5 сентября 1886 г. (XX, 276). Рукописи Салтыкову были возвращены, но в вышедшей в конце сентября 1886 г. книге «23 сказки» появилась лишь «Гиена», «Богатыря» же Салтыков в книгу не включил, опасаясь, вероятно, цензурных осложнений.
Последнюю попытку напечатать «Богатыря» писатель предпринял в марте 1887 г., предложив сказку Стасюлевичу для «Вестника Европы»: «Посылаю еще третью сказку (писанную и совсем крохотную) «Богатырь»; но думаю, что Вы не решитесь печатать ее», — писал он 23 марта (XX, 320). Через три дня Салтыков получил письмо Стасюлевича, не рискнувшего печатать присланные ему сказки («Ворон-челобитчик», «Вяленая вобла», «Богатырь») и поставившего Салтыкова перед необходимостью взять их обратно.
«Богатырь» разделил цензурную судьбу трех других сказок — «Медведя на воеводстве», «Орла-мецената» и «Вяленой воблы», не появившихся при жизни сатирика в легальной печати. Однако, проявив много стараний в борьбе за публикацию этих трех сказок, Салтыков не был столь настойчив относительно «Богатыря»: явно противоцензурный характер сказки почти не оставлял надежд на ее публикацию.
238
Баба-яга его родила… — В салтыковской сатире, как и в фольклоре, баба-яга олицетворяет стихию зла. Таким образом, начальные слова сказки прямо указывают на то, что образ богатыря воплощает силу, враждебную народу (см.: Баранов С. Ф. Великий русский сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин. Иркутск, 1950. С. 28).
