Рыжик, стр. 1
Алексей Иванович Свирский
Рыжик
(повесть)
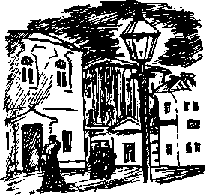
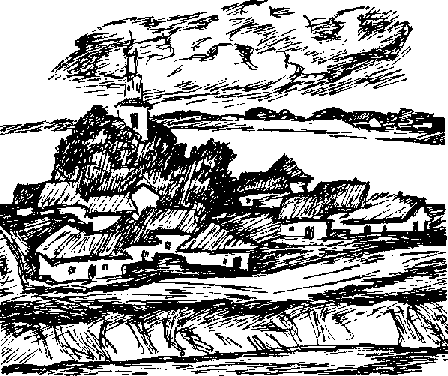
Часть Первая
I
Откуда взялся Рыжик и кто его приютил
Птицы еще спали, когда Аксинья вышла открывать ставни. Молодая женщина тихо скрипнула в сенях дверьми и перешагнула порог.
Солнце еще не взошло, но рассвет уже был близок. На востоке небосклон окрашивался в золотисто-сиреневый цвет. Звезды быстро гасли одна за другой. Береговая улица, или, как ее иначе называли, Голодаевка, спала крепким сном. Улица эта была застроена с одной только стороны, другая же сторона представляла собой высокий крутой обрыв, спускавшийся к реке.
Аксинья, прежде чем открыть ставни, перешла босыми ногами пыльную немощеную улицу и остановилась на краю речного обрыва. Над рекой медленно расплывались серые клочья тумана. Маленькие, хилые домишки тесной ломаной шеренгой толпились на краю обрыва.
Хозяева этих хижин хотя и называли себя домовладельцами, но были бедняками родовитыми: бедность, нужда и всякие невзгоды переходили к ним из рода в род, как переходят к богатым громкие титулы или миллионные наследства. На Голодаевке никто не мог похвастать ни богатым дедушкой, ни промотанным имением.
Бедность жила здесь с незапамятных времен, так что голодаевцы давно уже привыкли к своей нужде, как негры привыкли к тропическому зною или как эскимосы — к жестоким морозам.
Не богаче других была и Аксинья, жена Тараса Зазули. Муж ее хотя и был по ремеслу столяр и гробовщик, но денег у него никогда почти не было. Единственно, когда Зазули считали себя богачами, — это только во время Проводской или Успенской ярмарок, когда Тарас продавал партиями столы и табуреты, заранее заготовляемые им в своей мастерской.
В последние дни Тарас был занят именно этим делом. До ярмарки оставалось немного, и он очень спешил.
Просыпался Зазуля раньше обыкновенного и работал до глубокой ночи. Вот почему жена его в тот день, когда начинается наш рассказ, так рано вышла открывать ставни.
Зазулиха (так за глаза называли соседки Аксинью) постояла с минуту на берегу, бросила сонный взгляд на небо, громко зевнула, перекрестила рот и направилась к своей хате.
Она стала открывать ставни. Всех окон в доме Зазулей было три. Молодая женщина открыла ставни, прикрепила их веревочками к стене, чтобы ветер ими не хлопал, и направилась было в хату, как вдруг услышала чьи-то тихие, жалобные стоны. Смуглое, загорелое лицо Аксиньи вытянулось от удивления и любопытства.
— Ой, ой, ой!.. — стонал кто-то за домом.
Аксинье показалось, что стонет женщина. Несколько секунд прислушивалась она к странным звукам, пугливо озираясь по сторонам. Но вокруг не было ни одной живой души. Наконец Аксинья победила страх, и когда стоны особенно усилились, она подобрала ситцевую юбку и бросилась бежать, перепрыгивая через бурьян и крапиву, росшие около дома, в ту сторону, откуда слышались стоны. Аксинья скрылась. Наступила тишина. Спустя немного Зазулиха с искаженным от страха лицом выбежала из-за угла дома и бросилась прямо в хату.
Тарас стоял перед верстаком и налаживал доски. Его громадная наклоненная фигура занимала чуть ли не половину комнаты. Одет он был в широкие шаровары и серую рубаху, а на босых ногах — мягкие самодельные шлепанцы.
— Тарас, выйди скорей на улицу! — крикнула запыхавшаяся Аксинья, вбежав в мастерскую.
Лицо у нее было бледное, испуганное. Она вся дрожала.
— А что я там забыл, на улице?.. — проговорил равнодушным тоном Тарас, не отрываясь от дела.
— Иди скорей, иди же, говорю тебе… Посмотри, что случилось! — воскликнула Аксинья.
— А что случилось? Курица удавилась?.. — засмеялся Зазуля.
— У, каменный ты человек!.. — озлилась жена. — Выйдешь ли ты из хаты, аль нет?
— Как не выйти… От бабьего крика не только что из хаты, а из кабака и то выйдешь, — сказал Тарас и, низко наклонив голову, чтобы не стукнуться о косяк, вышел из мастерской.
Аксинья забежала вперед.
— Вот здесь, за сарайчиком… Слышишь, стонет? Сюда иди!.. Слышишь?.. — задыхаясь от волнения, шептала Аксинья.
Тарас молча следовал за нею, пыхтя трубкой, которую он успел закурить по дороге.
— Вот здесь, смотри!.. Слышишь? — шепнула Аксинья.
Тарас остановился. Перед ним на траве лежала женщина, а рядом с нею мирно спал завернутый в тряпки крошечный ребенок. Из полуоткрытого рта женщины вылетали слабые, хриплые стоны. Голова ее, повязанная темным дырявым платком, лежала на серой котомке. Бледная, с почерневшими губами, она имела вид умирающей. Глаза ее, неподвижные и как будто стеклянные, были устремлены в одну точку. Одежда ее состояла из грязных бесформенных лохмотьев.
Тарас с Аксиньей молча, но значительно переглянулись, когда подошли к умирающей.
— Спроси-ка, кто она и как сюда попала, — тихо сказал Тарас жене.
— Послушай, милая, откуда ты? — приступила к допросу Аксинья, наклонившись над больной. — Ты больна? Это твой ребенок?.. Как ты сюда попала?..
Аксинья задавала вопрос за вопросом, но ответа не последовало. Незнакомка умирала — это было ясно.
— Я людей позову, — решительно заявила Зазулиха, взглянув на мужа.
— И то правда… Разбуди соседей, а то еще невесть что подумают, — согласился Тарас.
Аксинья убежала. Вскоре ее звонкий голос нарушил тишину наступающего утра.
— Выходите!.. — кричала Аксинья, стуча в ставни соседних домов.
Минут через десять небольшой дворик Зазулей был полон народа.
Солнце еще не успело взойти, когда неизвестная женщина умерла. В ту самую минуту, когда она испустила последний вздох, проснулся ее ребенок. Он заметался и заплакал. Прибежавшие бабы, у которых были свои дети, услыхав голос плачущего ребенка, сейчас же определили, что ему всего три месяца от роду.
Аксинья, отвечая на вопросы, рассказывала, как она встала, как вышла открывать ставни и как услыхала стоны.
— Она, стало быть, живая была? — перебивали ее слушатели.
— Конечно, живая, ежели стонала! Мертвые не стонут, — пояснила Зазулиха и продолжала свой рассказ.
А ребенок не переставал кричать, надрывая грудь.
— Его накормить надо, — догадалась одна из женщин и взяла его на руки.
Женщину эту звали Агафья-портниха. Муж ее был портной, человек слабый и пьющий. У Агафьи было пятеро ребят, из них один грудной.
Ребенок, как только очутился на руках у Агафьи, сейчас же замолк и припал к ее груди, точно замер.
— Ишь, как сосет! — удивлялся Тарас, у которого своих детей не было.
— Дитя есть хочет, известное дело… У покойницы, может, и молока-то не было, — хором заговорили женщины, перебивая друг друга.
— Эй, вы, тише, начальство едет! — крикнул кто-то.
Бабы умолкли.
Вдали показался голодаевский городовой, Прохор Гриб, как его прозвали обыватели Береговой улицы. Это был старый отставной солдат, с мягким, точно вымоченным и выжатым лицом. На его сухом отвислом подбородке серебрилась белая щетина давно не бритой бороды. Прохор нюхал табак, и от этого его седые жидкие усы возле носа были покрыты темно-коричневыми пятнами. Сколько ему было лет, он сам не знал. Иногда он говорил, что ему восемьдесят, а иногда утверждал, что ему давно уже стукнуло сто. Городовым он был поставлен с незапамятных времен. Голодаевцы привыкли к Грибу, видя его перед собой всю жизнь, и смотрели на него так, как люди обыкновенно смотрят на речку, что вечно течет по одному и тому же направлению, или на дерево, пережившее несколько человеческих поколений.
— Что здесь такое? — жуя губами, спросил Гриб, подойдя ближе.
— Нищая померла, — ответил Тарас и снова раскурил трубку.
