Белая книга, стр. 44
С приходом лета, когда на лугу запестрели ромашки, похожие на желтые колесики с белыми, будто выскочившими из них спицами, а в поле рожь заиграла золотыми подвесками, небо словно бы слилось с землей. Я лег на спину у межи, зажмурил один глаз, а другим стал присматриваться: вот оно, вот! По склоненным колосьям катится белое облачко, как мягкий комок шерсти. Рукой подать!
Я вскочил на ноги, хотел схватить — не тут-то было. А мне показалось — оно так низко!
Но только началась косовица, небо сразу поднялось. Я бродил по гладкому, как столешница, лугу, и было мне как-то неприютно-одиноко, не то что прежде, когда вокруг колыхались травы, цветы.
Весь воздух жужжал и звенел, но редкая пчела или бабочка садились на землю. Лишь красные муравьи торопливо сновали по исхоженным кочкам.
А как стали убирать и копнить рожь, небо поднялось еще выше. И косы звенели гулко, будто под огромным сводом.
За работой парни и девушки громко перекликались, а мне чудилось, будто звуки — все-все до единого — глохнут и всяк слышит только себя. Мне было велено сидеть возле бабки и сторожить полдник, чтобы собаки не поели хлеб, не вылакали из горшка простоквашу.
Я сдвинул в бабке один сноп и мигом очутился в удобной избушке с гладкими глянцевыми стенами. Я все время перемещался в ней, усаживался лицом к косцам, ведь в той стороне больше можно было увидеть и услышать.
А наскучит земля, ее приглушенные звуки, блеклые краски, у меня есть небо, хоть до него так далеко. Стаи сизых и белых облаков порою меняли ход, сталкивались, теснили одна другую, а иной раз вся эта мешанина застывала сине-белой грудой и до того напоминала мыло, что я стал мудрить, как бы мне его достать. Вот бы хорошо! Матери не надо будет тратить лишние деньги да еще потом долго сушить мыло на печке. И можно бы этим мылом холсты отбеливать. Почему у коробейников его так много? Стало быть, изловчились, сумели достать. Может, въехали на Извозную горку, да и отрезали от неба, сколько хотели. Вон оно какое там низкое, опустилось до самой земли. А рано поутру и поздним вечером они, верно, отрезают себе красного мыла… О своем открытии я даже оповестил взрослых, но они ничего не поняли и только смеялись.
Когда убрали рожь, взялись за лен.
Люди, словно большие пестрые птицы, пригнувшись, копошились на зеленовато-желтом поле, а вечером, по дороге домой, пели грустные песни.
Бледнее стало солнце. Порыжелые обочины канав утром покрывала роса, ее крупные зерна не исчезали до вечера. Какой-то непонятный страх донимал меня. Я часто подбегал к работавшим на поле людям, громко с ними заговаривал. Иногда лен с поля возил мой дедушка. Он подсаживал меня на тяжелый воз, и мы ехали в загон. Там батраки работали на обрубке льна. Возьмут пучок льна и об острое лезвие косы — чик! Пучок мигом укорачивался. Потом лен несколько раз прочесывали, пока не отпадут все головки. С легким присвистом пучок льна перелетал в кучу к дружкам, которые дожидались, когда их свяжут в снопики и свезут в мочило.
Я сидел в затишке под горой льняного семени и вслушивался: однообразное шуршание льна о щетку то и дело перекрывал звук удара о косу — жесткий, короткий звон.
Но вдруг возникли совсем иные звуки: яркие, словно бы осенним солнцем переполненные, они постепенно набирали силу.
Батраки прервали работу, закинув головы, вглядывались в небо из-под руки. Да, журавли улетают в теплые края. Так высоко летели они, что казались не больше ласточек. У меня вдруг остро заныло сердце, и я бы заплакал, не будь рядом парней.
— Цепью! Цепью! — кричали вдали пастухи. Но серая нить уже таяла в небе.
Я взмахнул руками. «Почему у человека нет крыльев? — подумалось мне. — Почему он не может взлететь в небо и умчаться в теплые края, когда земля здесь стала голая, а небо все отдаляется, все раздается вширь?»
И вот наступила пора, когда колосья на ячменном поле поникли, как головы сонных стариков, а овсяное поле походило теперь на шаль с едва заметным узором и зелеными каемками. Прошло немного времени, и желтые скирды стали застить синюю даль. С утра и до темна скрипела фуры. Я расхаживал среди возчиков, в руке — толстая березовая хворостина, в кармане — полно мышей.
— Слава богу! — воскликнул хозяин, когда на пригорке увязали последний воз.
Я огляделся. Коровы и овцы торопливо семенят по просторному полю, изредка тычась мордами в колючую стерню. Вдали на краю земли спят угрюмые леса. А выше? Там ни единого заслона, ни границы, ни предела.
Все пригорки, все желтые рощи и кучки серых построек кажутся мелкими, игрушечными. А этот последний воз с воткнутыми в него вилами, стертыми за лето добела, этот гнедой коняга, и его хозяин, и девушка-батрачка с граблями через плечо, и я со своими мышами в кармане — все мы едва приметны. Что ни делай — кричи, плачь, буянь, — никто не услышит, не заметит, так все кругом оцепенело, отдалилось.
Прошло еще несколько дней, переполненных тишиной, и я почуял близость неизбежной перемены. Дольше терпеть не хватало сил, сердце будто висело на ниточке: вот-вот оборвется.
И правда, она пришла. Однажды утром я увидал, что пустые поля застланы сверкающим белым покрывалом. Когда я выбежал во двор, мягкие пушинки все еще неспешно слетали вниз, липли к рукам, лицу, к моим босым ногам. Небо опять опустилось низко-низко. Временами оно наваливалось на самые приземистые крыши. И я перестал быть одиноким и маленьким. Напротив: я чувствовал, как наливаюсь теплом и зреющей силой.
ЗИМА
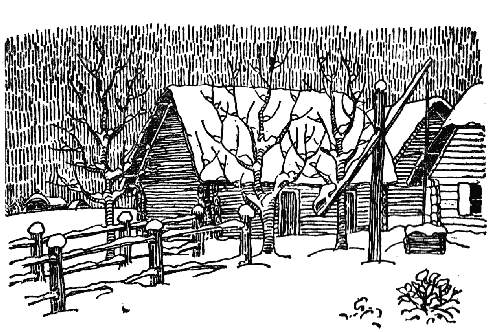
Мама справляла мне лишь самую необходимую одежку, поэтому дружить с суровой зимой я не мог. Я смотрел на нее со стороны: из окна либо когда на минутку выбегал во двор. И все же я наблюдал ее день за днем, час за часом, так же пристально, как и лето, когда с утра до вечера бывал на воле.
Ах, какими крупными хлопьями иной раз валил снег, будто кто-то там, в вышине, припасал их для особых случаев. Смотришь: все столбы изгороди на прогоне уже в круглых белых шапках, а ветви на деревьях разбухли и побелели. И вдруг снегопад унимался. Расступались облака. Открывалось желтовато-розовое небо, а земля казалась еще краше, потому что она была светлее неба. Облака уплывали прочь. Ветер стихал. Солнце сияло ярко-красное, и снег пытался ему подражать. Потом солнце закатывалось. Снег и вовсе преображался: он бывал голубой, мерцающий, как волны, но вскоре угасал. Холодало.
Поздним вечером выйдем мы с матерью во двор, а небо сплошь усеяно голубыми огоньками бессчетных звезд. Глянь! И на снегу вон сколько крохотных звездочек! Нагибаюсь, ищу, хватаю рукой… Исчезли! Пожалуй, скорее ухватишь одну из тех, на небе.
Иногда морозы стояли долго. Я только на миг выскакивал во двор и стремглав летел в дом. Но еще свирепей мороз поутру. Вдохнешь холодный воздух — в носу иглами колет. Окна замораживало снизу доверху. Покамест варили обед, они оттаивали, и с них текло, но когда теплый пар улетучивался, а плита остывала, они снова зарастали причудливыми цветами, которые немного погодя превращались в снег.
Под вечер, случалось, подымался лихой буран.
Ночь напролет он выл и свистел вокруг нашего ветхого жилья, будто просился в дом. По всей батрацкой привольно разгуливал ветер, и мы накрывались с головой, чтобы спрятаться от него и чтобы не так слышен был жуткий вой метели. А наутро проснешься — тишина… И в комнате вроде не холодно. Окна оттаяли. Как хорошо!
Но когда собирались пойти в хлев кормить скотину, оказывалось, без раскопок из дому не выбраться. Метель трудилась так усердно, что успела возвести белую стену и сровнять сугроб с крышей. Мы брали лопаты и прорывали ход, по которому выбирались из заключения.
В низинке на лугу близ бани всегда застаивалась вода. Когда она превращалась в лед — эх и веселая начиналась жизнь! Частенько на гладкий наш каток сбегалась целая ватага школяров. Они катались по льду, распластав руки, как крылья, шумели, толкались. Тогда я обувал свои деревянные мокроступы и ковылял до угла хлева; оттуда можно было поглазеть на веселую возню мальчишек. Голые ноги мерзли, но домой идти не хотелось, покуда не спохватится мать.
