Завоевание Англии, стр. 28
Королева замолкла и затем продолжала уже спокойно, как будто в ней жили две совершенно противоположные женщины:
— Я уже получила награду за свою покорность, но, конечно, не от этого мира. Так и ты, Гарольд, сын Годвина, любишь эту девушку, и она тебя любит; вы могли быть счастливы, если бы счастье было возможно на земле; но, хоть Юдифь и высокого рода, у нее нет достаточно обширных и богатых поместий, нет родни, чтобы пополнить твои войска!.. Она не сможет стать ступенькой к достижению твоих тщеславных замыслов, и поэтому ты любишь ее только так, как мужчина способен любить женщину, — гораздо меньше своих целей!
— Сестра, — ответил граф, — ты говоришь так, как говорила со мной в былые годы, как женщина с душой, а не как кукла, скрытая под монашеской власяницей. Если ты будешь поддерживать меня, я женюсь на Юдифи, огражу ее от суеверий Хильды и от могилы, в которую ее положат еще живой!
— Но отец наш… Отец! С его железной волей?
— Я не боюсь отца. Но вот церковь! Ты разве забыла, что Юдифь и я состоим в дальнем родстве, при котором наш брак запрещен?
— Да, правда, — испуганно вскрикнула королева. — Гони прочь все мысли об этом! Заклинаю тебя: вытесни эту мечту поскорее из сердца!..
Королева ласково поцеловала его в лоб.
— Опять исчезла женщина и появилась кукла! — сказал Гарольд с глубокой досадой. — Ничего не поделаешь, я покоряюсь судьбе… Но наступит день, когда представитель английского престола не будет раболепствовать перед монахами, и тогда я, в награду за все мои услуги, попрошу короля, у которого будет биться живое сердце, разрешение на брачный союз. Оставь же мне, сестра, хоть эту надежду и не губи Юдифь во цвете лет!
Королева молчала, и Гарольд, считая это не совсем добрым знаком, пошел прямо к молельне и открыл дверь; но невольно остановился в благоговении перед невинной девушкой, еще стоявшей на коленях. Когда она встала, он мог только сказать:
— Сестра не будет больше настаивать, Юдифь!
— Я еще не давала этого обещания, — воскликнула королева.
— А если бы и так, — добавил граф Гарольд, — то не забудь, Юдифь, что ты дала слово мне!
Сказав это, он торопливо покинул спальню королевы.
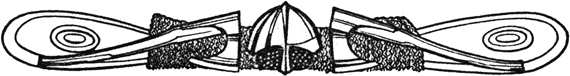
Глава VII
Гарольд вышел в прихожую. Ожидавшее тут общество было немногочисленно по сравнению с толпой, которую мы встретим в прихожей короля; сюда были вхожи избранные, просвещенные люди, а число их, конечно, не могло быть значительно в то время. Сюда не приходили шарлатаны, стекавшиеся толпой к королю для того, чтобы воспользоваться его легковерием и расточительностью. Пять или шесть монахов, печальная вдова, скромное дарование и немощное горе — вот все, кто допускался в покои королевы.
Взгляды присутствующих с любопытством обратились на графа, едва он вышел из спальни королевы; все удивлялись его пылающим щекам и суровому взгляду. Но тем, кто приходил к королеве Юдифи, был дорог граф Гарольд; просвещенные люди уважали его за знания и за ум, несмотря на его мнимое пренебрежение к некоторым достоинствам, а вдовы и сироты видели в нем непримиримого врага всякой несправедливости.
Среди этого мирного собрания в Гарольде пробудилась врожденная доброта его сердца, и он остановился, чтобы сказать мимоходом сочувственное слово каждому из присутствующих.
Спустившись по наружной лестнице — в эту эпоху даже в королевских дворцах все главные лестницы возводились снаружи, — Гарольд вышел в обширный двор, где сновало множество телохранителей. Войдя снова во дворец, он направился к личным покоям короля, называемым расписной залой и служившим Эдуарду приемной в торжественных случаях.
Толпа уже заполнила обширную прихожую короля. Во всех углах сидели монахи и пилигримы. Считая бесполезным терять время на этих людей, граф прошел сквозь толпу и был тотчас допущен к королю. Проводив его злобными, завистливыми взглядами, монахи стали шептаться.
— Норманнские любимцы короля чтили, по крайней мере, нашего Бога!..
— Да, — ответил на это замечание монах, — и если бы не разные важные обстоятельства, то я предпочел бы норманнов саксам.
— Какие обстоятельства? — спросил молодой, честолюбивый монах.
— Во-первых, — с ударением ответил тот, — норманны не умеют говорить на понятном для нас языке и, кажется, не любят духовного сословия. Другая же причина, — продолжал он лукаво, — заключается в том, что они люди скрытные и не любят вина! Попробуйте держать в руках человека, который не любит болтать!
— Да, это мудрено, — подтвердил коренастый пилигрим с лоснящимся лицом.
— Кто же еще поможет открыть человеку глаза на его грехи? — продолжал первый: — я успокоил многих за фляжкой вина, и не одно пожертвование досталось в пользу храма во время приятельской пирушки сметливого священника с заблудшими овцами. Это что? — обратился он к человеку, который вошел в это время в прихожую. Мальчик нес за ним легкий сундучок, накрытый полотном.
— Отец, — ответил тот, — это настоящее состояние, и казначей Гюголайн будет целый год коситься на меня: не любит он, злодей, выпускать из рук золото короля!
При этом простодушном замечании мирянина монахи и остальные присутствующие злобно взглянули на него, так как у всех и каждого было немало замыслов относительно казны короля.
— Сын Мамоны! — с озлоблением воскликнул монах, — не думаешь ли ты, что наш добрый король дорожит побрякушками и картинками. Отправляйся-ка ты со своим вздорным товаром к Балдуину Фландрскому или к щеголю Тостигу, сыну Годвина.
— Как бы не так! — насмешливо сказал торговец. — Что даст мне за сокровище неверующий Балдуин или тщеславный Тостиг?! Да не смотрите же так сурово, отцы, а постарайтесь лучше приобрести эту редкость — древнейшее изображение Господа! Один почтенный друг купил его для меня в Висби за три тысячи фунтов серебра; а я прошу за хлопоты сверх лишь пятьсот.
Все с завистью окружили сундучок торговца.
Почти в эту же минуту раздался гневный возглас, и рослый тан влетел в толпу, как сокол в стаю воронов.
— Не думаешь ли ты, — закричал тан на наречии, которое выдавало в нем датчанина, — что король будет тратить столько денег, когда крепость, построенная Канутом при устье Гомбера, почти совсем в развалинах, и в ней нет даже ратника, чтобы наблюдать за действиями норвежских кораблей?
— Мой почтенный министр, — возразил торговец с едва заметной иронией, — эти отцы объяснят тебе, что изображение Водена лучше защитит нас от норвежцев, чем каменные крепости.
— Защитит устье Гомбера лучше сильного войска?! — проговорил тан в раздумье.
— Разумеется, — сказал монах, вступаясь за торговца. — Да разве ты не помнишь, что на памятном Соборе тысяча четырнадцатого года велено было сложить оружие против твоих соотечественников и положиться на защиту Господа? Стыдись; ты недостоин звания предводителя королевских полков. Покайся же, сын мой, а иначе король узнает обо всем…
— Волки в овечьей шкуре! — пробормотал датчанин, отступая назад.
Торговец улыбнулся.
Но нам пора последовать за Гарольдом, который прошел в кабинет короля.
Войдя в покой, граф увидел еще достаточно молодого человека, богато одетого, в вышитой гонне и с позолоченным оружием; покрой его одежды, длинные усы и выколотые на коже знаки указывали, что он принадлежал к числу ревностных хранителей саксонской старины.
Глаза графа сверкнули: он узнал в посетителе отца Альдиты, графа Альгара, сына Леофрика. Два вождя очень холодно раскланялись друг с другом.
Противоположность между ними была разительна. Датчане вообще были крупнее саксов, и, хотя Гарольд во всех отношениях мог считаться чистым саксом, он унаследовал, как и все его братья, рост и крепкое сложение древних викингов, своих предков по матери. Альгар же был невысок и казался тщедушным по сравнению с Гарольдом.
У него были яркие голубые глаза, подвижный рот, отливающие золотом густые непокорные кудри, не желавшие ложиться в модную по тем временам прическу. Живость движений, грубоватый голос и торопливость в словах противоречили внешности Гарольда — его спокойному взгляду, величественной осанке и пышным волосам, спадавшим на плечи роскошной волной. Природа наделила того и другого умом и силой воли; но в них проявлялась такая же резкая разница.
