Хроникёр, стр. 43
— Коком-то у вас кто?
Вот вопросик! Приятно на такой ответить. Мол, коком у нас баба, а о жратве забот нет: «колпит»!
— О хлебушке, помните, как мечтали?
— В войну-то? Ну. Кто сколько съест. Кто говорит, две буханки, кто говорит, три буханки. А Крыса: «Буду есть, пока не устану. Посплю, а потом снова сяду есть».
— А и верно! Мы ему: «Заболеешь!» А он: «Ну что вы? Разве от хлеба можно заболеть?!»
Эх, Крыса! Повздыхали. Не дотерпел до долгожданной их навигации, за колючей проволокой существует теперь.
— Ну, ладно, — сказал Куруля. — Не дрейфьте! — Он сунул сухую горячую руку, попрощался жестким рукопожатием с Лешкой, потом с Федей.
Поднялись на палубу. Ночь была вся в огнях. Стояли желтыми квадратами наверху окна цехов; бежали лестницей фонари Набережной; тьма кругом была исколота тычками иллюминаторных огней; внезапно открываясь, панически таращились в темноте красные и белые глаза ходовых сигналов. На всех палубах то и дело выплескивались полотнища света, выявлялись в них люди, слышался негромкий деловой разговор. С внезапным свистом, все заглушающим шипением за борт выпускался излишний пар. Творилось нечто потаенное, празднично волнующее, нестерпимое — почти до бесстыдных слез. Звезды отдалились, были уж не так крупны и близки, как в войну. Зарево поселка заслепило рогастенький месяц. По черной воде возились золотые хвосты отражений. Запах молодой воды, снега, прохватистый ветерок с Волги вышибали внезапный озноб.
— Из какой войны вылезли?! — сказал Куруля. — Потому что боялись не за себя... — Он коротко помолчал. — А ведь весело знать, что любой из нас за любого из троих кинет жизнь, не спросясь... Так?
Лешка и Федя, напряженно помедлив, кивнули.
— Вот я и говорю: теперь нас — и навсегда! — трое... Согласны?.. И будет нужда, так за другого любой из нас... не спросясь... Могу я о вас такое знать?
Федя набычился в темноте, а потом сказал:
— Ладно.
А Лешка от пронзительности и высоты этой клятвы еще с минуту, должно быть, не мог говорить.
— О чем разговор?! — даже с легким презрением сказал он, когда отпустило. А у самого сердце разрослось больше тела. Эх, Куруля! Эх, Федя!.. Да он сейчас готов... «Только бы не зареветь!» — с мрачным восторгом подумал Лешка.
— Ну, тогда пошел, — сказал Куруля. В отличие от Лешки и Феди, которые были в тельняшках, в форменках, в колом стоящих грубошерстных длинноватых бушлатах, Куруля был по-прежнему в ватничке, малахае и обтрепанных кирзачах.
Лешка и Федя смотрели, как его кощейская фигура уходит по трапу.
Сколько лет назад взошел он для Лешки как черное солнце, и ведь что там ни говори, а все эти годы Лешка крутился вокруг него: Куруля на риск и Лешка за ним на риск, Куруля в огонь и Лешка за ним в огонь. А уж Федя, подумав, за ним, за Лешкой. Так и жили все эти годы гуськом. Своим притяжением держал он их, особенно Лешку, Куруля. На что бы ни прицелился Лешка — скажем, восхититься стихами, непременно тут же всплывает в памяти старушечье морщинистое лицо Курули: а он бы как?.. Ну и все, и хватит! «Кинуть жизнь за тебя — это пожалуйста!..» Но вместе с тем: «Вот мой пароход, а вот твой пароход, Куруля. Понял?»
— Отдать носовой, — негромко сказали с крыла мостика, над головами Лешки и Феди.
Прошитая золотой строчкой иллюминаторов, черная глыба Курулиного толкача неслышно отодвинулась, покрылась тьмой, прошелестела вода, и прошла близко черная мятая корма. Строчка иллюминаторов развернулась, а затем медленно сжалась в одно круглое желтое око, расправились и обозначили габариты судна ходовые огни. Толкач молча бурлил до караванки. И только тогда взвыл прощально. Дав ему поплакаться, вразнобой взревели ответно суда. Волосы шевелились от этого их судного крика. Как будто самого разрывают. Как будто от себя уплываешь.
И все-таки... Ах, и все-таки: какая ликующая, крепкая, будоражащая затевалась под пароходные вопли жизнь!
МИРАЖ
ГЛАВА 1
1
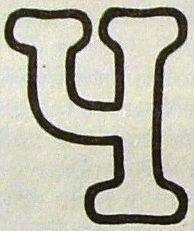
Мне это, надо сказать, не понравилось. Зачем конференция? Какой Егоров?
— Ответ оплачен, — сказал почтальон.
— Что у них там происходит?— Не знаю, — сказал почтальон.
Я сел за прерванную приходом почтальона работу. Но работа расклеилась: не выходила из головы телеграмма. Я походил-походил из угла в угол, а потом отправился на почту и отбил следующий невнятный ответ: БЛАГОДАРЮ ПРИГЛАШЕНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ ТЧК СОЖАЛЕЮ БОЛЬШОЙ ЗАГРУЖЕННОСТИ РАБОТОЙ ЗПТ ЧТО ДЕЛАЕТ ПРОБЛЕМАТИЧНЫМ МОЙ ПРИЕЗД ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЗАТОН ТЧК АЛЕКСЕЙ БОЧУГА
На следующий день пришла новая телеграмма: УБЕДИТЕЛЬНО ПРОШУ ПРИЕХАТЬ ТЧК ЕГОРОВ
Помедлив еще день, собрался и поехал в затон.
В конце концов, я ехал в каком-то роде к себе домой. И, не одолжаясь у Воскресенского завода на проезд и прочее, волен был вести себя так, как сочту нужным.
В самолете я вынул из портфеля книжку, почувствовал тоску от ее дешевого и, на западный манер, броского вида, запихал ее снова в портфель и вынул два номера толстого литературного журнала, где повесть «Земля ожиданий» была напечатана до выхода книги. Собственно, сам-то я свою повесть еще не читал. Я раскрыл ее на второй части, где Курулин был уже не тот показывающий вахтерше зад баламут, а сорокатрехлетний директор Воскресенского завода, и время обозначалось как наши дни.
ИЗ КНИГИ «ЗЕМЛЯ ОЖИДАНИЙ». ИЗ ЧАСТИ II
Шестого ноября в числе пассажиров маленького самолета, совершающего внутриобластные рейсы, находился директор Воскресенского судоремонтного завода Василий Павлович Курулин. Он возвращался из Москвы. И возвращался ликующий, дерзко-веселый. Свершилось то, чему почти и невозможно было свершиться, на что не было почти никаких надежд. Свершилось, вопреки всему, легко и почти мгновенно. И у Курулина до сих пор захватывало дух от фантастической этой удачи. Самолетик был мерзлый, даже изнутри заиндевелый. Но Курулину холод не мешал, напротив: приятно остужал разгоряченное лицо. В добротном, сшитом на заказ полушубке, в золотистого цвета пыжиковой шапке, Курулин был само предвкушение. Сдвинулось дело всей его жизни. И как сдвинулось! Сразу стало на большой государственный ход. От нетерпения, азарта у него подрагивали руки.
Самолет шел над Волгой, по которой во всю сорокакилометровую ширину ее двигался лед. Желтоватая снеговая каша медленно лезла на всем протяжении, лишь кое-где обнажая голубые разводья. Зима ударила нынче рано, суда попрятались по затонам, и на заливе, над которым самолет начал разворачиваться, заходя на посадку, отблескивал молодой жидкий лед. Под крылом прошла облезлая, плешивая гора, затем земля вновь опала, показался все тот же залив, с судами, которые стояли на всем протяжении, борт к борту, еще живые, с масляным маревом над трубами, с выбросами за борт горячей, сильно парящей воды. Затем показался пустырь, как бы отодвинувший поселок от Волги; кучно-деревянные и какие-то жалкие сверху домики: хорошо, если седьмая часть от прежнего затона — конгломерата семи поселков; уже облетевшие и как бы жмущиеся к домам деревья, «нашей», как мелькнуло у Курулина, посадки, поскольку, когда поселок перевезли, ни деревца вокруг не было, да вокруг-то и сейчас нет: поселок в чаше, а по сторонам — грязно-желтые от скудной травы бугры, глинистые проплешины, голизна, убожество, слезы на глазах у людей, когда вспоминают березовые гривы на той стороне, где теперь одна вода да, значит, еще вот лед. Мелькнули четыре крупно заложенных восьмидесятиквартирных дома, черная башня асфальто-бетонной стационарной установки, кирпичный завод, — а это вот наше! Нами сделанное! Немного, конечно. Но хоть что-то, за что зацепиться можно, двинуть жизнь хоть как-то вперед!
