Богомолье (сборник), стр. 58
– Конечно… и здесь – Свет Разума, – сказал я и почувствовал, что дубовая клепка с моей головы спадает.
– Согласны?! – воскликнул радостный, как дитя, дьякон. – Ну, превышение… и тонкого духа нет… высоты-то! Но… что прикажете делать… на грошиках живем… последнюю нашу святую чашу отобрали… уж оловянную иеромонах привез, походную… Можно и горшок, думаю? Начерно все… но…
Он поднялся и поглядел на горы.
– Спою тропарек… петь хочется! Ах, чего-то душа хочет, интимного… С тем и пошел. Пройдусь, думаю, на горы, воспою… И тревога во мне, и радость, покою нет…
Он пел на все четыре стороны: и на далекую белую зиму, и на мутные волны моря, и на грязный камень, и на дали. Дребезгом пел, восторженным.
– И вот уж и победа! – воскликнул он, садясь и подхватывая колени. – Дурачок-то наш звал меня! В тот же вечер без памяти свалился. Сорок градусов! Три дня без памяти. Прибежала жена: «Идите, помирает!» Прихожу, а там уж Ворон сидит, как бес, за душой пришел. Лежит наш дурачок Иваныч, и свечка восковая при нем горит, у иконы Спасителя. Плачет: «Не даю ему, а велит тушить… Вот, помираю, отец дьякон. Хочу войти, а его отвергаюсь… Уйдите, господин Воронов, посланник сатаны! Я был православный – и останусь!» А тот погладил брюхо и говорит: «Нет, вы уж отвергли капище, и жрец вас проклял! И приняли истинное крещение! Тайна сия нерасторжима!» – «Нет, – говорит, – я только искупался, как дурак, и все недействительно». Жена схватила ухват да на того!.. «Уйди, окаянный демон, пропорю тебе чрево твое!» Ну, тот ослаб. «Духовная гниль и мразь вы все!» – прошипел и подался вперед ухватом. А я учителя успокоил. Говорю: «Собственно говоря, в совокупности обстоятельств моя анафема недействительна, а только сыграла роль для укрепления колеблющихся. И иеромонах так думает». – «В таком случае дайте мне вашу руку!» И поцеловал мне, хотя и против правил. Дал слово всенародно исповедать веру. В регенты опять хочет. И через неделю оправился. Сводя итог, разумею, что… Но лучше уж вы скажите верное резюме!..
И мы хорошо поговорили, на высоте.
Декабрь 1926 г.
Севр
Про одну старуху
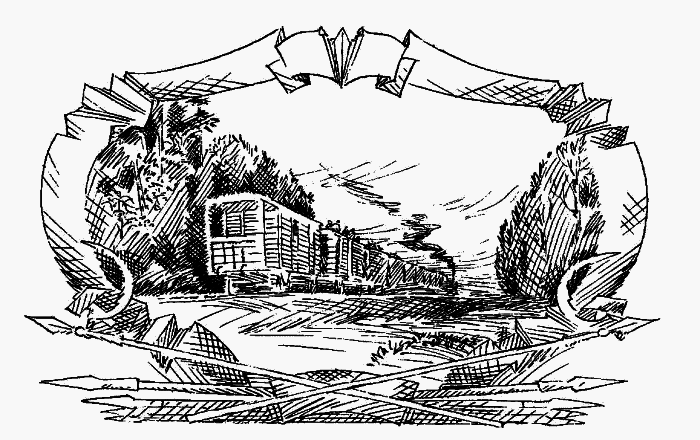
I
…Как мы с ней тогда на постоялом ночевали, она мне про свое все жалилась. Да и после много было разговору…
В то лето я по всяким местам излазил, не поверишь… Да тифу этого добивался… а он от меня бегал! Кругом вот валятся – а не постигает! Самовольно с собой распорядиться совесть не дозволяла, так на волю Божию положил… Да, видно, рано еще… не допито. Потом один мне монах в Борисоглебске объяснил: «Два раза Господь тебя от смерти чудесно сохранил – вот ты и должен помнить, а не противляться! А за свою настойчивость обязательно бы своего добился, каждому дана свобода, да, значит, раньше уж сыпняк у тебя был, застраховал!..»
В самую эпидемию ложился, в огонь!.. И где я не гонял тогда, с места на место, как вот собака чумелая! А думают – спекулянт, дела крутит… Правда, многие меня знавали, как, бывало, дела вертел… а теперь один как перст, гнездо разорено… По России теперь таких!.. Какие превращения видал – не поверишь, что у человека в душе быть может, – и на добро, и на зло. А то все закрыто было. Большое перевращение… на край взошли!..
Так вот, про старуху… А про себя лучше не ворошить.
Из Волокуш она, Любимовского уезда, за Костромой… А я-то ярославский, будто и земляки. Да в каждой губернии таких старух найдется. Ну, от войны да смуты ей, пожалуй что, всех тяжелей досталось. Махонькая была, сухенькая, а одна ломила – и по дому, и в поле. Легкая была на ногу, кость да жилка, и годов уж за шестьдесят. Невестка неделями от спины валялась, трое ребятишек, мелочь, – все на одной старухе. И характером настойчивая была, сурьезная. Сын, Никешка, спьяну побьет когда – да чтобы она соседям!.. Поплачет перед печкой с чугунками – слезой-то и вытекет. И жену-то он доконал, побил шибко на Масленой, у кума из-за блинов скандал затеял да в полынью с санями и угодил… привез полумертвую – на въезде и бросил, в казенку [196] занадобилось. Калекой с того и стала.
Как старуху-то я за Тамбовом встретил – совсем уж и не узнать, шибко заслабела, и в голове уж непорядки, от расстройки. Да и все… спокою ни у кого нет. Про себя скажу: во скольких уж я делах кружился и все в голове, бывало, держу… а с семнадцатого года стал путать. А как два раза пистолет приставляли, и гнездо все наше!.. Ну, сурьезная была старуха, горбом возила. К господам Смирновым на поденщину бегала – полы помыть, пополоть, на сенокос там… У господ Смирновых делянки снимал я прежде – имение какое было, сколько народу от них кормилось!.. – ну, деревню ее хорошо знаю, Волокуши, – округ по лесам работали. И на мас
лобойку гоняла, посуду мыть, – там ей снятым молочком платили, а она творожком внучат питала, – и грибы грибникам сушила, и на патошном [197] картошку корзинами таскала, а ей патокой выплачивали… И патошников хорошо знал, Сараевых, царство небесное, товар у них брал, глюкозу, в Иваново на красильни ставил… Как все налажено-то было, спокон веку!.. Ну, сказать, неправда была… а все будто и утряхивалось, коромысло-то ходило, и у каждого надежда – Господь сыщет… Ну а где правда-то настоящая, в каких государствах, я вас спрошу?! Не в законе правда, а в человеке. Теперь вот правда!..
При сыне волом работала, а как Никешку на войну забрали, все на нее и свалилось. Сумела обернуться, паек солдатский исхлопотала, надел сдала, огород да покос оставила, лошадку удержала – картошку на патошный возить. И еще туфли, чуни, плела на лазареты. Эти чуни, скажу вам, по тем местам я распространил, со Звенигородского уезду, – многие кормиться стали, поправились. Ну и она плела, по ночам, глаза продавала. А сын раз всего только и написал, как в госпитале лежал, – сулился домой с гостинцами.
Свое помню: мои двое… прапорщики были, скорого обучения… месяц, бывало, письма не получаешь, и то надумаешься!.. А жили мы в достатке: и домик в Ярославле, и в Череповце мучное дело налажено, – и то какое беспокойство! А тут одна старуха, за все про все.
Так и не показался. Справки ей Смирновы наводили, – ответили так, что в плену. А потом товарищ его в дом писал, что убит в бою, – через год уже. Ну, поплакала – и опять крутись…
А тут и пошло самое-то крутило, смута… Господ Смирновых описали в комитет, выдали старухе пять пудов ржи, да хомут еще, да зеркало. Просила корову, на сирот, а ей – телка! Понятно, ей обидно, плакалась: «Куды мне хомут, у меня свой хомут!..»
«А ты не завиствуй, – говорят, – мы тебе зеркало какое дали, всего увидишь!»
Вот и поговори. А чего старуха может!
«У меня, – говорит, – кормильца убили…»
«Ну что ж, что убили… такую уж присягу принимал!..»
Все и разговоры.
А как стали тащить-то, комбедные-то эти как пошли вертеть, – опять старуху отшили: пожаловали ведерко патки, с сараевского заводу, да овцу. А на патошном восемнадцать коров было, глядеть страшно! Слышит старуха – бабенке одной пегую определили, а бабенка молодая, вдовая, без детей, с Ленькой она гуляла, с куманистом главным… Старик один так их величал, очень значительно! Куманисты… Ну, понятно, обидно: гулящей кобыле корову дали, а на сирот – овцу! Вот и пошла старуха к Леньке Астапову. Рассукин-то сукин был!.. Я его самолично за виски трепал, как он у меня струмент унес, – лес мы тогда сводили. Знала, понятно, и старуха, какой сукин сын-вор был и мужики сколько его лупили… ну а все, думается, совести-то, может, у него осталось… А дело такое было… это тоже знать нужно.
С войны он загодя еще сбег и у смирновского лесника скрывался. Он потом того лесника на расстрел присудил, в город угнали, что уж там – неизвестно. Будто народный лес продавал! Во какой, сукин сын! Ходила старуха по грибы да на Леньку в чащах и напоролась!.. Заяви она кому следует – сейчас бы его полевым судом, как дизелтир!.. Ну, он ее, конечно, застращал: спалю! Да еще магарычу с нее затребовал: махорки да самогону принеси, а то обязательно спалю! Въелся в ее, как клещ! Ну, напугалась, доставила ему, глупая… а он будто еще и нехорошо с ней сделал… В лесу чего кто увидит! А лесник-то про все его подвиги потом рассказывал. Во какой, су-кин сын!
196
Казёнка – неотапливаемый чулан в избе.
197
Па?тошный. – Имеется в виду завод, на котором варят патоку – жидкий сахар. Патока могла производиться из картофеля, винограда, арбузов и т. п. и являлась лакомством.
