Тайный Союз мстителей, стр. 1
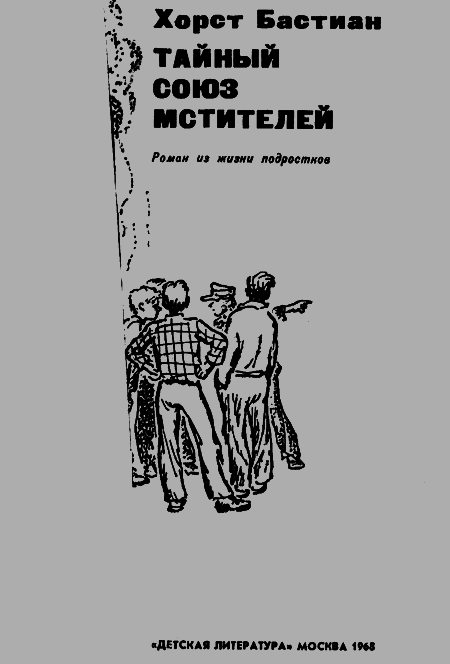

Глава первая
ДРУГА ТОРСТЕН
Вечно его место за партой пустовало. И как только учитель, выкликая в начале урока имена учеников, называл Другу Торстена, ребята хором кричали: «Болен!..» При этом им бывало очень весело, и тот, кто первым произносил это слово, победоносно оглядывал класс.
Друге было тринадцать лет. И, когда здоровье позволяло ему являться в школу, он сидел за партой один. Товарищи сторонились его: он был очень бледный. В деревне говорили, что он скоро умрет, и боялись, как бы дети не заразились от него какой-нибудь болезнью. Все ведь очень любили своих детей, а Друга был чужак, приехал из города, ничего не слыхал о молотьбе, о том, как сажать картошку, да и говорил совсем не по-деревенски.
Когда учитель вызывал болезненного мальчика и тот чуть слышно произносил: «Я здесь», это звучало как «Простите меня, пожалуйста». Учитель недолюбливал Другу — слишком уж хорошие сочинения он писал, куда лучше, чем его собственный сын, да и мать Други Торстена никогда не приносила ему сала на квартиру.
Сыну она как-то сказала: «Бьюсь об заклад — у этого учителя рыльце в пушку». Почему она в этом была так уверена, она и сама не знала. Но говорили так в деревне многие.
Всю зиму мать ходила с топором в лес — валила деревья. А летом она батрачила у богатых хозяев. Их в деревне еще хватало, и учитель водил с ними дружбу. Но не только потому, что так уж повелось исстари, на то были другие причины.
На переменах Друга тоже оставался один. Он стоял посреди галдящего школьного двора, который скорей напоминал заброшенную дорогу. На противоположных концах его лежало по два булыжника — футбольные ворота, а между ними ребята гоняли мяч, похожий на бесформенную дыню, но дорожили им больше, чем всеми школьными уроками, вместе взятыми. На переменах учитель не обращал внимания на своих учеников, а когда нелегкая заносила его во двор, запретный мяч успевали спрятать куда-нибудь подальше.
Только один Друга боялся этого мяча, а ему так хотелось в него поиграть! Но он не умел и чаще всего просто не попадал ногой по мячу или отбивал его противнику. Ребята тут же налетали на него, и ему здорово доставалось. Друга почти не защищался и никогда не ябедничал. Но страдал он при этом, как страдают только в тринадцать лет. Под конец Другу никто уже не хотел брать в свою команду, и на переменах он торчал один посреди длинного двора под старым дубом, стараясь не мешать другим, а то как бы дело опять до драки не дошло.
Так он и стоял, бледный-бледный и какой-то ужасно взрослый. Сколько раз он плакал от гнева и презрения к самому себе! Жалкий трус он, и больше никто! Друга мечтал о том, чтобы у него были друзья. Не раз он пытался купить чью-нибудь дружбу, обещая одноклассникам всякие распрекрасные вещи, которых у него и в помине не было. И опять все кончалось побоями, и опять он оставался один.
И вот однажды Другу вынесли из школы на руках.
С утра накрапывал дождь. Дороги и тропинки раскисли. Даже дом против школы, с окнами без занавесок, казался грустным, словно и ему было зябко в этот ненастный ноябрьский день. Класс уже натопили, недавно выскобленный пол был затоптан грязными ногами. Ученики сладко потягивались за партами.
Но Другу бил озноб, болело сердце. Он сидел, закусив нижнюю губу, и никак не мог сосредоточиться.
Учитель за кафедрой с важным видом просматривал классный журнал. Это был высокий тощий человек, и на руках у него росли длинные черные волосы. Все ученики боялись его, за исключением детей богатых хозяев. Когда свет, падавший из окна, преломлялся в стеклах его очков, взгляд его становился злым и колючим. Под американским пиджаком в крупную клетку он носил жилет, и ногти его всегда были тщательно отполированы, будто у какой-нибудь шикарной дамы.
На дом было задано выучить стихотворение Иоганнеса Р. Бехера. Обычно в таких случаях Другу Торстена не спрашивали. Учитель знал — стихотворение Друга всегда выучит и прочтет хорошо. Однако сегодня, заметив отсутствующий взгляд Торстена, он тут же вызвал его к доске.
Друга стоял перед учителем и молчал. Он забыл начало стихотворения и даже как оно называется: у него болело сердце! Друга переступал с ноги на ногу, не зная, куда девать руки.
Учитель сидел, подперев голову ладонью, и сбоку поглядывал на ученика. Ему явно доставляла удовольствие его растерянность. Подчеркнуто вежливо он спросил:
— Может быть, ты возьмешь в руки какую-нибудь книгу? — И, немного помолчав, добавил: — Великие артисты всегда держат что-нибудь в руках, иначе они не могут довести до слушателей свой изумительный монолог.
Ребята засмеялись, а учитель напустил на себя еще большую важность.
Друге было не до смеха. Он весь дрожал. Дрожал оттого, что болело сердце и он никак не мог вспомнить первую строку, и еще оттого, что он ненавидел учителя.
Кто-то из ребят подсказывал шепотом:
— Мы учиться хо-тим…
Тихо, очень неуверенно Друга повторил:
— Мы учиться хотим…
Голос его прервался. В груди кололо, будто ее пронзали молнии. Он повернулся к учителю и хотел попросить разрешения сесть. Но что-то сдавило ему горло — он не в силах был вымолвить ни слова.
Опять учитель что-то сказал, и в классе, должно быть, раздался смех. Друга заметил это по лицам — он ничего не слышал. Ему вдруг стало все безразлично, он только подумал: у учителя голова совсем как у лошади; да, да, он похож на старую клячу и, наверное, за обедом повязывает салфетку. Наверняка повязывает салфетку — клетчатую или белую, да, пожалуй, белую!..
И Друга потерял сознание. Он упал на выскобленный пол.
Когда он снова пришел в себя, была темная ночь. Домик их стоял у самой околицы. И Друга каждый раз долго прислушивался к шуму машины, удалявшейся от деревни. Вот, сухо потрескивая, промчался мотоцикл, потом пробубыхал колесный трактор марки «Ланц». Ветер громыхал ставнями. А теперь донесся голос какого-то пьяницы, вновь и вновь затягивавший: «И все мы, все мы будем в раю…»
На изъеденном древоточцем столе чадила восковая свеча, к потолку поднималась черная нить копоти. Ток выключили. Дедушка спал. Ему было уже за восемьдесят, но каждый день, сунув в карман моток бумажных веревок и кусачки, он отправлялся в лес. Собирал там хворост, стаскивая сухие, обломившиеся ветки в кучу, потом кусачками откусывал торчавшие в разные стороны сучки. Ветку он уважал, только если она была прямая и гладкая, а то ведь и одежду можно порвать! Потом дедушка связывал хворост в три удобные вязанки и вечером с гордостью нес их домой, в деревню. Сперва он брал только одну вязанку, переносил ее на несколько десятков шагов и возвращался за второй, а затем и за третьей. Дед всегда сердился, когда Друга хотел ему помочь. Нет, он сам собрал дрова, сам и отнесет их, будто победитель какой. И вообще дедушка любил побыть один, но больше всего он радовался, когда Друга приносил из школы хорошие отметки. Тут сразу все чудачество с него соскакивало, он делался ласковым и рассказывал Друге разные приключения из жизни в Северной Америке.
Ровное дыхание деда порой переходило в тихий храп, но это как бы усиливало тишину, царившую в маленькой комнате. На краю кровати, не отрывая взгляда от мерцавшей свечи, сидела мама. Друга быстро закрыл глаза, но мать, должно быть, успела заметить, что он проснулся. Погладив его по влажному лбу, она ласково сказала:
— А ты долго спал.
Друга посмотрел на нее. Сейчас она улыбалась, но он видел, что недавно она плакала.
