Приключения 1990, стр. 58
Афанасьича побочные соображения не интересовали, а суть задания он дано уже усвоил. Хладнокровие Афанасьича чем-то задело Шефа. Он спросил, глядя в упор:
— А если тебе прикажут меня замочить, как поступишь?
— Никто мне такого не прикажет, — спокойно ответил Афанасьич.
— Нет, а все-таки... Представь себе такую ситуацию.
— Как я могу ее представить, если выше вас никого нет?
— Ну а понизят меня? — домогался Шеф, сам не зная для чего.
— Я вас очень уважаю, — тихо сказал Афанасьич.
Шеф не понял застенчивого сердца Афанасьича и застонал. Ну, договаривай. Уважать-то уважаешь, а долг служебный выполнишь. И не верхний я вовсе, есть повыше меня. Да и не в этом дело... Нет у нас личной преданности, только — креслу. Пора на покой этому судаку. Жаль, что нельзя его просто на пенсию: годы не вышли и знает слишком много. Второго такого не скоро найдешь. Но, как говорится, незаменимых людей нет.
— Ладно, Афанасьич, ты побежал. Не то в клуб опоздаешь. Хочешь на посошок? Вольному воля. Была бы честь предложена. Бывай!
Он вышел вслед за Афанасьичем в прихожую, затворил за ним дверь, наложил засовы, вернулся в кабинет и по внутреннему телефону попросил жену зайти к нему.
И она пришла. Она вшумела в комнату, «как ветвь, полная листьев и цветов», так, кажется, у Олеши? И как всегда, ее появление отозвалось сушью в горле. Ее спелая, налитая прелесть, уму не постижимые формы неизменно заставали его врасплох. Она была чудесна двадцатилетней, но с годами, особенно шагнув в зрелость, делалась все лучше и лучше, как бы стремясь к заранее предназначенному наисовершеннейшему образу. Иные женщины перегорают в молодости, большинство — к сорока (тридцать девять не возраст — состояние, которое длится годами), а Мамочка широко отпраздновала сорокалетие и в том же победном сиянии двинулась дальше.
Высокая должность и соответствующий ей чин, то особое положение, в которое его ставила дружба с Самим, весь достаток были выслужены им самоотверженным трудом, бессонными ночами, личной верностью, беззаветной преданностью социализму в его нынешней завершенной, как спелое яблоко, форме (в этом немалая заслуга его Друга по техникуму-институту), но Мамочку, если начистоту, он не заслужил. Она была ему не по чину. И когда пятнадцать лет назад Высокий друг положил на нее глаз — тогда свежий, карий, а сейчас похожий на тухлое яйцо, — он не ревновал и даже не переживал, приняв как должное. Мамочка была создана, чтобы парить. Все же царицей она не стала — жениться по любви не может ни один король. Осталась с ним, не только нарушив, но еще более укрепив узы верной, хоть и неравной дружбы. Мамочка была для него трофеем, который каждый день надо завоевывать заново. Что он и делал.
— Опять наглотался? — проницательно определила Мамочка.
В другое время он стал бы изворачиваться, врать, но сейчас верил в свои козыри.
— Маменция! — сказал он развязно. — Докладываю: задание выполнено, противник уничтожен, взяты трофеи.
И протянул ей сноп ослепительных искр. Мамочка отличалась завидным хладнокровием, но сейчас она дрогнула. Всем составом и по отдельности: качнулся высокий, как башня, шиньон («шиньонским узником» называл его Сам в добрую минуту, явно на что-то намекая), и в разные стороны метнулись под капотом тяжелые груди.
— Да-а, это предмет, — сказала она осевшим голосом. — Так бы тебя и поцеловала.
— За чем же дело стало?
— Не выношу сивухи... Ладно, я тебя сегодня приму, только прополощи рот.
— Будет сделано, товарищ маршал!
— Подумать страшно, что такая красота могла уплыть за бугор. Вот уж верно: что имеем, не храним...
— ...а потеряв, не плачем, — подхватил муж и добавил с невинным видом: — Может, сдадим в Оружейную палату?
— Еще чего! Чтобы ее стащили? Нет уж, у нас сохранней будет. Как там с театралом?
— С каким театралом?
— Ну, с отъезжантом. Из ГИТИСа.
— Все нормально. Послезавтра Афанасьич его навестит.
Она сказала задумчиво:
— Не нравится мне твой Афанасьич. Больно глубоко залез.
В унисон бились их сердца и трудилась мысль. Если у него еще оставались какие-то сомнения насчет Афанасьича, то теперь они исчезли без следа.
— Не беспокойся, Мамочка, я уже принял решение.
Она взглянула на него с неподдельной нежностью. Конечно, он был не блеск, впрочем, как и все нынешние мужики: выпивоха, необразованный, малокультурный, но под шапкой у него кое-что имелось. А жить можно с любым, только не с дураком. Нет, дураком он не был.
— Долго не канителься, — сказала она. — А то я усну...
Тяжелодум Афанасьич тоже не был дураком. Весь долгий путь от дома Шефа до клуба он думал о странном вопросе, которым тот ошеломил его перед уходом. Вопрос этот был покупкой, но Афанасьич не купился, поскольку никогда не замышлял против Шефа. А вот Шеф себя выдал. Он чего-то боится, не доверяет Афанасьичу и хочет от него избавиться Афанасьичу в голову не приходило подвергать сомнению правовую сторону всей секретной службы. Он исполнитель, что прикажут, то и делает, остальное его не касается. Нечего ломать мозги, отчего да почему переменился к нему Шеф. Важно одно — это приговор. Но от приговора до исполнения есть время. Можно опередить Шефа и самому нанести удар. Замочить Шефа, конечно, очень нелегко и... жалко. Эдак вовсе один останешься. Чистая женщина — для спанья, а душа осиротеет. А если — Мамочку?.. Небось это она сбила Шефа с толка. Бабы подозрительны да и не умеют ценить мужской дружбы. Ее убрать куда проще и безопасней. Подымать волну не станут. Спишут на самоубийство. А Шеф поймет намек. Поймет, что Афанасьич обо всем догадался, но не захотел его губить. А коли так, почему не сохранить партнерство? Старый друг лучше новых двух.
Успокоившись на этот счет, Афанасьич отворил тяжелую дверь клуба и шагнул в тепло, свет, музыку.
Валерий Аграновский
ПРОФЕССИЯ: ИНОСТРАНЕЦ
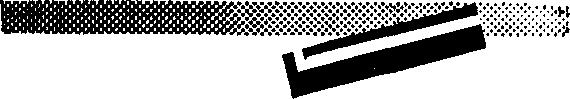
Для корабля,
который не знает,
в какую гавань он идет,
ни один ветер
не будет попутным.
Сколько поступков совершаются людьми из благородных побуждений! Но всегда ли эти побуждения приводят их в рай? Увы, и дело не только в целях, которые могут быть весьма благородными, но и в средствах, с помощью которых цели достигаются, — что, мне кажется, общеизвестно. Возьмите науку: сама по себе она без — нравственна или, вернее сказать, нейтральна по отношению к нравственности. Результат зависит от того, в чьих руках находится научно-техническая политика и вообще политика: в руках честных людей, ставящих перед собой возвышенные задачи и применяющих для их достижения достойные средства, или их антиподов, которые и к задачам стремятся низменным, и в средствах неразборчивы. Монтень прекрасно сказал:
«Тому, кто не постиг науки добра, всякая иная наука приносит лишь вред».
Вероятно, именно по этой причине великое изобретение Эдисона одновременно дало человечеству и электрический свет, и электрический стул, и перечень примеров аналогичного раздвоения возможностей науки и техники может продолжить сам читатель.
Я же перехожу к тому, во имя чего, собственно, и взял в руки перо: к разговору о поступках, совершаемых людьми во имя достижения поставленных перед собой целей. Хочу предложить вам в связи с этим знакомство с человеком, о котором я написал целую повесть. Жанр ее весьма привлекателен для читателя: детектив. Но тут меня, откровенно признаться, терзают сомнения: будет ли читаться вами эта повесть без захватывающих дух и традиционных для жанра «занес нож...», «вдруг открылась дверь...» и «он неожиданно почувствовал»? Не ждите всего этого, мой любезный читатель, заранее вам скажу, потому что мой герой — человек хотя и опасной профессии, но вполне «гражданской» и «деловой». Имя моего героя несколько десятилетий хранилось в тайне и было в безвестности, но он добровольно стал на путь сложного и сурового дела, чрезвычайно полезного нашей стране. В. И. Ленину принадлежат слова:
