Мужское воспитание, стр. 10
11
Сначала из машины выбрались шестилетний белобрысый Павел, сын начальника штаба, и первоклассница Нинка. Они вовсе не казались испуганными, даже наоборот — они явно были довольны тем, что прокатились на машине и теперь очутились среди солдат. Даже всеобщее внимание их нисколько не смущало.
Вслед за ними появился Лебедев.
Он улыбался — виновато и неуверенно. Он даже не подмигнул Димке, как обычно, лишь скользнул взглядом по его лицу и медленно, словно нехотя, пошел к центральной вышке, возле которой уже строилась рота. И только тогда скверное предчувствие вдруг шевельнулось в Димкином сердце…
Потом Димка видел, как стоял Лебедев перед строем.
Наверно, это очень неприятно — стоять вот так, когда сто человек смотрят на тебя, а ты один.
Димкин отец сказал:
— Ну, расскажите, Лебедев, роте, как это получилось.
Лебедев пожал плечами.
— Рассказывайте, рассказывайте, не стесняйтесь…
Лебедев молчал.
— Ну что же вы? Вы ведь всегда любили поговорить.
Лебедев по-прежнему переминался с ноги на ногу и молча смотрел вниз.
— Ну, хорошо. Тогда я могу рассказать за вас. Солнце, травка — все располагает к отдыху. Почему бы не позагорать? Вокруг никого, никто не увидит… Не так ли?
Лебедев неопределенно шевельнул плечами.
— Ну, а потом?
— А потом, — неожиданно сказал Лебедев, — я увидел их. Они были уже далеко… Я им крикнул… Они испугались и побежали… Я побежал за ними…
— Погодите, Лебедев. У вас была рация. Почему вы сразу не сообщили, что на стрельбище люди?
— Я сообщал… Но меня, наверно, не слышали…
— То есть как не слышали? Почему?
Лебедев замялся.
— Аккумуляторы у меня сели… — негромко проговорил он.
— Аккумуляторы сели… — тихо и раздельно повторил Димкин отец. — А раньше вы не догадались, что их надо зарядить? Вы не знали, что радиостанция не готова к работе? Или вы решили: сойдет и так, ничего не случится…
Лебедев молчал.
— А теперь вы бросаетесь под пули и думаете, мы будем восторгаться вашей храбростью? Нет, Лебедев, не будем. Восторгаться мы будем теми, кто добросовестно делает свое дело. Изо дня в день. Добросовестно и умело. Это, знаете ли, самое важное. И самое трудное. Можете вы это понять, наконец, или не можете?
— Могу, — сказал Лебедев печально.
И Димке стало так жалко его, словно это он сам, растерянный и поникший, стоял перед строем. Он даже закрыл на секунду глаза. Он всегда закрывал глаза, когда чувствовал, что вот-вот заплачет.
— За вашу халатность, Лебедев, вы будете наказаны, — сказал отец. Он сделал паузу и резко скомандовал: — Рота, смирно!
Солдаты шевельнулись и замерли. И Димка тоже вытянул руки по швам и замер.
Отец вскинул руку к козырьку.
— За халатное отношение к служебным обязанностям, — четко выговорил он, — которое едва не привело к жертвам, объявляю рядовому Лебедеву трое суток ареста.
— Есть трое суток ареста… — как эхо откликнулся Лебедев.
— Вольно, — скомандовал отец и шагнул к Лебедеву. — Что это у вас в руке? Покажите.
Лебедев разжал левую руку — на ладони у него лежала маленькая сплющенная пуля.
— Это вы там… нашли? — помедлив, спросил отец.
— Да, — тихо сказал Лебедев.
Потом Лебедев вернулся в строй, и отец уже другим, будничным голосом начал говорить о стрельбах — кто и в каком порядке будет теперь стрелять.
А Димка отошел в сторону и сел на камень. Первый раз Димке хотелось побыть одному. Ему надо было о многом подумать…
Экзамен, которому нет конца (повесть)
1
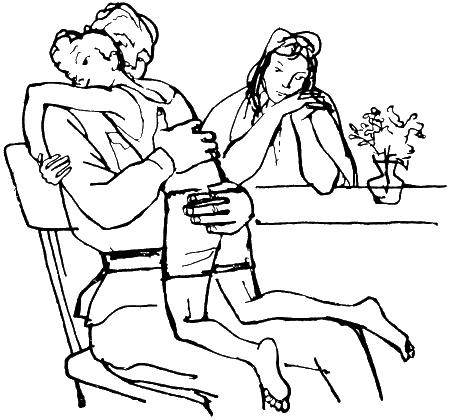
Мы возвращались с отцом из школы.
Сначала вместе с нами шел Мишка Матвейчик, потому что Мишку хлебом не корми — дай только пройтись рядом с военным, никогда он не упустит такую возможность.
Но потом Мишка свернул к своему дому, и мы остались с отцом вдвоем.
Даже назойливая Элька Лисицына деликатно приотстала. Впрочем, всем своим видом она показывала, что все прекрасно понимает, что не хочет нам мешать. Ну и пусть!
Мы не стали садиться в автобус, мы миновали автобусную остановку и пошли дальше пешком.
«Цок-цок, цок-цок» — цокали отцовские сапоги металлическими подковками по тротуару.
«Тук-тук, тук-тук» — постукивали каблуки моих ботинок.
Так мы шагали рядом, и я чувствовал, что теперь уже могу свободно рассказать ему обо всех своих переживаниях, обо всем, что случилось со мной, начиная с того самого дня, когда мы с мамой проводили его в Москву, или нет, позже — когда мы получили первое письмо из Москвы… или нет, даже еще позже — с того дня, когда я посмотрел в окно и увидел старшеклассников, играющих в волейбол…
2
Я посмотрел в окно на площадку, где старшеклассники играли в волейбол, и вдруг первый раз отчетливо понял, первый раз подумал всерьез о том, что очень скоро расстанусь со своим шестым «б», со своей партой у окна, на крышке которой кто-то еще до меня вырезал таинственное слово «чапа» — даже сквозь свежую краску проглядывали эти буквы. И с Мишкой Матвейчиком, моим соседом по парте, тоже расстанусь…
Когда я захватывал место возле окна, когда спорил и чуть не подрался с Ленькой Корпачевым, тогда я как-то совсем забыл, что скоро мне все равно придется проститься со своей партой. Стоило ли сражаться из-за нее? Тогда я думал только об одном — отстоять, захватить свое законное место — ведь оно принадлежало мне по праву — в пятом классе я весь год просидел здесь, почему же я должен был уступать его какому-то Леньке Корпачу, который никогда даже не нюхал места возле окна?
И пусть теперь, когда я уеду, Мишка передвинется на мое место, пусть тоже не уступает Леньке, надо сказать об этом Матвейчику, надо обязательно сказать, а то он человек добрый, сговорчивый, еще и уступит…
Отсюда, с моего места, хорошо видно всю спортивную площадку, а дальше — за школьной оградой — автобусную остановку, а еще дальше — красные и зеленые крыши двухэтажных домов с торчащими над ними антеннами. Если долго смотреть на эти антенны, то можно ясно увидеть, как колышутся и струятся возле них радиоволны и исчезают вдруг разом, точно вода, втянутая воронкой. Когда я однажды сказал Мишке, что своими глазами видел радиоволны, он засмеялся и спросил:
— А ангелов ты не видел? С крылышками?
А иногда в наш класс доносился отдаленный гул. Гул этот был едва слышим, едва различим — его улавливали лишь оконные стекла и начинали чуть-чуть подрагивать — и никто не догадывался, что это за гул, никто не обращал на него внимания, а я знал. Я знал: это танки, поднятые по тревоге, выходят на учения. И еще я знал, что в такой день, вернувшись из школы, не застану дома отца…
«Наверное, уже принесли телеграмму», — подумал я теперь.
Еще утром мама сказала: «Сегодня обязательно должна быть телеграмма от папы. Обязательно».
Хоть бы поскорее кончились уроки! А то сидишь тут и ничего не знаешь…
— Серебрянников, ты о чем задумался? Надо смотреть не в окно, а на доску. На окне ничего не написано. Серебрянников, кому я говорю?
Мишка Матвейчик толкнул меня в бок. Я вскочил.
— Повтори, что я сейчас объясняла.
Анна Сергеевна, математичка, стояла возле самой нашей парты, так что рассчитывать на подсказку было нечего. Мишка уткнулся носом в тетрадь и не смотрел ни на меня, ни на учительницу. Он всегда так: за других переживает больше, чем за себя, для него нет хуже мученья, чем видеть, как гибнет на его глазах человек, а он даже не может помочь.
— Я жду, Серебрянников.
Я молчал.
— Ну что ж, Серебрянников, — сказала Анна Сергеевна, — я ставлю против твоей фамилии точку…
«Сейчас она скажет: а точка — это зародыш двойки», — подумал я.
— А точка, Серебрянников, это зародыш двойки, — сказала Анна Сергеевна. — И вообще мне не нравится, как ты ведешь себя последнее время. Если так будет продолжаться, боюсь, нам придется поссориться в конце четверти…
