Могикане Парижа, стр. 141
Мадемуазель Бебе, которой нельзя было для развлечения даже поглазеть на улицу, сильно скучала, а так как выходить она опасалась из-за того, чтобы не встретиться с другой рыжей, которая могла арестовать ее, то и проводила часть ночи, пока Крючконогий ходил на работу, стоя у окна и слушая, что делается во дворе.
Жибелотт, проходя на охоту за кошками мимо дома, в котором жил Крючконогий, заметил свет в его окне и стал подкарауливать.
Наконец он увидел затворницу.
Произошла сцена, которая, если бы в ней участвовали Ромео и Джульетта, была бы верхом поэзии и изящества, но так как то были только Бебе Рыжая и Жибелотт, то мы и обойдем ее молчанием.
Однако результатом этой сцены было то, что на другой день, завтракая с тряпичником, Жибелотт предложил ему, чтобы он переехал в одну из его двух комнат. Комната была меблированная, а цену за нее хитрый кошачий охотник просил ровно такую же, какую тряпичник платил за свою немеблированную конуру. Это, разумеется, соблазнило его, и он с радостной благодарностью перешел из родных пенатов вместе с мадемуазель Бебе к своему великодушному товарищу.
К концу месяца Крючконогий, который сначала просто блаженствовал на новой квартире, начал заметно тревожиться. Мадемуазель Бебе как истинно нежная подруга спросила его о причине этой тревоги. Крючконогий признался ей, что ему нечем будет заплатить Жибелотту за комнату.
Мадемуазель Бебе сначала призадумалась, а потом объявила, что сама устроит это дело с Жибелоттом, чем навела Крючконогого на новую тревогу.
Но так как дело действительно уладилось, и Жибелотт о деньгах не заговаривал, то Крючконогий перестал о них и думать не только в первый, но и во все последующие месяцы, так что это вошло у него даже в привычку, – и кончилось тем, что он вообразил, что нашел даровую квартиру.
Но дело не ограничивалось даже и этим. Очень часто, в холодные дождливые ночи, когда Крючконогий возвращался домой мокрый, перезябший и с пустыми руками, так что мадемуазель Бебе не могла быть от своего сожителя в восторге и принималась кричать, Жибелотт при первых же звуках ее голоса стучался к жильцам, входил и, видя их расстроенные лица, говорил:
– Ну, ну, чего вы? Плач и скрежет зубовный из-за того, что не удалось набрать тряпок?! Ну так что ж? Зато кролики ловились сегодня хорошо, а ведь старые друзья – не турки какие-нибудь.
– А чем же это доказывается, что они не турки? – спрашивал Крючконогий, который был скептиком, как истинный тряпичник.
– Скажи-ка, доволен ты будешь, если я дам тебе взаймы тридцать су?
– Известное дело – гораздо довольнее, чем теперь.
– Ну, так на тебе, довольствуйся, будь счастлив, вот тебе пятнадцать су.
– Да ведь на пятнадцать-то су и счастье будет наполовину!
– Ничего! Да ты проешь сперва хоть эти. Ну, а не будешь совсем счастлив, так мы там посмотрим.
Крючконогий уходил, покупал себе вместо твердого счастья счастья жидкого, выпивал всю свою долю наслаждения и возвращался домой, до того отягченный счастьем, что падал под его бременем или на углу, или у фонарного столба, или же на первых ступеньках лестницы.
Жизнь, которую устроил ему Жибелотт, очень нравилась Крючконогому, но человек предполагает, а дьявол располагает! Одна неожиданная катастрофа, как карточный домик, разрушила счастье, которое тряпичник считал прочнее скалы.
Месяца три или четыре дело шло очень хорошо. Но в тот вечер, когда произошла драка между Людовиком, Петрюсом, Жаном Робером и Крючконогим, Жибелоттом и Лелонгом, друзья, возвратившись домой, помятые и избитые, с величайшим удивлением увидели в своей квартире двух жандармов в оживленной беседе с мадемуазель Бебе. Оказалось, что она обогатила соломенную набивку своего матраца двумя серебряными приборами, которые украла у соседнего часовых дел мастера, зайдя к нему отдать в починку часы, полученные ею в подарок от Жибелотта.
Увидя друзей, она выразительно подмигнула им. Они, понурясь, поплелись за нею и видели, как она вошла в казарму д'Урсин, куда жандармы впустили ее первую, вероятно, из уважения к ее прелестям.
При этом Крючконогий пришел в последнюю степень отчаяния и стал просить друга, чтобы тот дал ему пятнадцать су, хотя и сомневался, чтобы на такую ничтожную сумму можно было залить такое громадное горе. Так как он был истинный христианин, то и хотел попытаться подчиниться воле Божьей с подобающей покорностью.
К несчастью, прекрасной и миролюбивой Рыжей Бебе между ними не было, и Жибелотт вместо того, чтобы поспешить утешить друга, не только отказал ему, но еще и объявил, что сам очень нуждается в деньгах и требует, чтобы он отдал ему как можно скорее свой долг с присоединением двенадцати процентов на всю сумму, что составляет сто семьдесят пять франков и четырнадцать сантимов.
Это требование уплаты породило между друзьями охлаждение, от охлаждения они перешли к ссоре, а от ссоры готовились перейти к процессу, который, разумеется был бы опасен для свободы Крючконогого, но с ними случайно повстречался Варфоломей Лелонг. Он только за неделю перед тем вышел из больницы Кошен, совершенно оправившись от последствий своего падения и, разговорившись с друзьями, дал им совет и сделал предложение. Совет состоял в том, чтобы они, вместо того, чтобы судиться, пошли к Сальватору, а он уж, наверно, сумеет решить, кто из них прав и кто виноват. Предложение же было еще того приятнее. Жан Бык, Варфоломей Лелонг, желал отпраздновать свое выздоровление и предложил друзьям пройти в трактир «Золотые раковины», распить несколько бутылок бургундского.
Вот почему Жибелотт и Крючконогий, бывшие вчера врагами по той же причине, которая погубила и великую Трою, и поссорила двух петухов Лафонтена, подходили к кабаку и к Сальватору, опираясь друг на друга так крепко и прочно, точно их никогда не разъединяла ни одна слабость или страсть человеческая.
Часть VII
I. Двенадцать процентов дяди Жибелотта
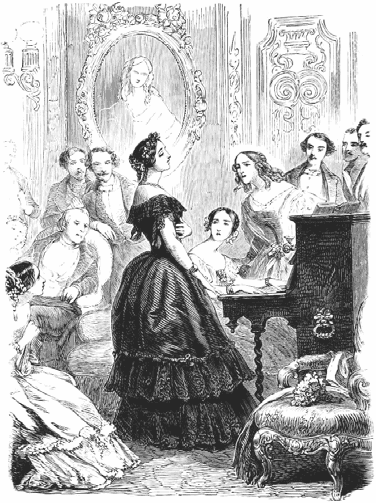
Друзья прошли мимо Сальватора и, точно забыв, что он должен быть посредником между ними в чрезвычайно важном для них обоих деле, ограничились только тем, что почтительно раскланялись с ним.
Сальватор, который вовсе и не подозревал, какой высокой чести они собирались его удостоить, ответил им легким кивком головы.
Они вместе вошли в кабак, остановились у входа и стали глазами искать Варфоломея Лелонга, но его в зале не оказалось.
– Ну что, – сказал Крючконогий, – не пойти ли нам, пока его нет, рассказать наше дело мосье Сальватору?
– Да я и сам этого хочу, – ответил Жибелотт, которому, видимо, этого вовсе не хотелось, – да только я думаю, не лучше ли сначала выпить по стаканчику за три су?
– Это-то не худо, да только уж плати ты, – у меня ночь сегодня была не доходная.
– Разумеется! – согласился Жибелотт. – Два стаканчика водки и «Конституционнель»! – крикнул он гарсону.
Тот подбежал, налил до краев две рюмки водки, подал Жибслотту газету и отошел, унося с собою и графин.
– Ты это что ж такое делаешь? – остановил его Жибелотт.
– Я? – переспросил гарсон.
– Ну да, ты.
– Как что? Я подаю вам то, что вы спрашивали. Вы сказали: две рюмки водки и «Конституционнель», – я вам и принес.
– А графин уносишь?
– Понятно, уношу.
– Так я тебе скажу, ветрогон ты этакий, что так с гостями не поступают.
– А как же надобно поступать с гостями? – спросил гарсон.
– Умные гарсоны делают только заметку на графине, до каких пор отпита водка, ставят его на стол и уходят, а счет сводят уж потом.
– Понятное дело, что счет сводят уж потом! – подхватил Крючконогий самым убедительным тоном.
– А кто из вас будет платить? – спросил гарсон.
– Я, – сказал Жибелотт.
– Ну, так это другое дело.
Он опять поставил графин на стол.
– Послушай-ка ты, блюдолиз, – сказал Крючконогий.
