Мирка, стр. 11
Михал и Мирка стояли, прислушиваясь к тишине, и не знали, о чем говорить, что делать. Им было жаль уходящего детства. Ведь никогда больше не искать им в этом саду клад старого горожанина. Слово «никогда» казалось им смешным и лишенным смысла.
Внезапно на Мирку напал страх. Она взяла Михала за руку, как когда-то, когда была маленькой и они вместе возвращались из школы домой. В голову снова прокралась беспокойная мысль:
«Когда старшие беседуют, они всегда вздыхают и говорят: «О, воспоминания — это единственное, что остается человеку в жизни, воспоминания о молодости». Так и у меня. Ничего, что я любила когда-то, больше нет; никогда больше у меня не будет фартука в белый горошек и я не буду сидеть в «Мирандоле» и рассказывать ребятишкам о призраках, так, что они потом будут бояться в темноте идти домой… Никогда больше я не приду сюда. Надо было послушать Мишу и пойти с ним в кино».
— О, Миша, что ты делаешь, ты раздавишь мне пальцы! — вскрикнула Мирка и посмотрела на Михала.
Она заметила, что у него в глазах отражается крыша старого дома и танцуют золотые искорки, как лепестки от желтых георгин.
— Миша, пойдем отсюда, здесь больше нечего делать.
Михал пожал плечами. С девушками трудно договориться: они никогда не знают, чего хотят. На то, чтобы посмотреть дом, где они родились, у них будет достаточно времени, когда им стукнет тридцать.
— Вот было бы здорово, если бы эти старые дома снесли и на их месте построили совершенно новый, современный город из стекла, с парками, озерами, и прокопали бы в Праге еще одну реку! Градчаны и памятники, действительно красивые, можно было бы оставить для туристов, а все остальное построить заново.
— Эх ты, Мачек, наш балбес «с приветом»! — прокричала Мирка. Она смеялась; печаль, внезапно охватившая ее, так же внезапно исчезла.
— Надо же, вспомнила! — засмеялся Михал. — Пойдем отсюда, или ты снова начнешь реветь.
«Почему у Михала золотые искорки в глазах? Скажите, почему?»
МИХАЛ ОСТАНОВИЛСЯ НА УГЛУ
Михал остановился на углу своей улицы. Разочарованно посмотрел на нее. Ему казалось, что он на дне пропасти, где не растет даже трава. Темные стены домов тянулись вверх, и когда он сильно откинул голову назад, то увидел кусок неба — и тот подсмеивался над ним: «Вот видишь, я здесь, а ты оставайся там».
Когда-то эти темные, угрюмые дома были вполне современными, и жили в них молодые веселые люди. Им еще нравились высокие двери и наляпанные над ними гипсовые украшения. Им нравились окна, затянутые собранными в густые складки шторами, и царившие в комнатах величественный полумрак и тишина. Дома постарели — пережили две войны, молодые люди исчезли. Михал встречал здесь только старых женщин в черных платьях или немолодых женщин в темных платьях — таких, как у его матери, — мужчин, дряхлых, задыхающихся, озабоченных, а иногда и злобных. Молодые люди появлялись на улице редко. Когда они проходили здесь, то ускоряли шаг и прижимались друг к другу или, наоборот, очень шумели, стараясь разогнать влажные тени, и старые люди и старые дома возмущались.
Михал стоял на углу и не решался ступить на улицу, напоминавшую ему скользкий омут. Ему было жаль себя, маму, маленькую сестричку. Зачем они переселились к бабушке в Прагу?
В прихожей он споткнулся о самокат. Хотел за что-нибудь ухватиться, чтобы не упасть, и сорвал со стены вешалку. Двери кухни распахнулись. Михал увидел маму, а у окна — бабушку в высоком старомодном кресле.
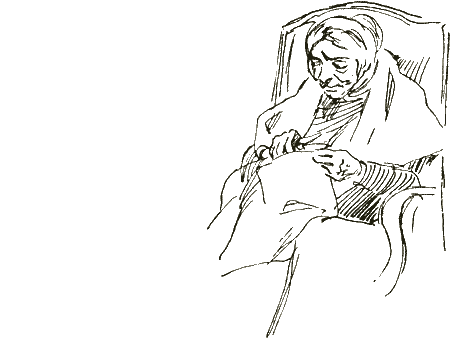
Бабушка ударяла палкой в пол в такт злобным словам:
— Не позволю, не позволю! Это моя квартира и моя мебель. Кто вас сюда звал? Дайте мне спокойно умереть, не беспокойтесь обо мне.
Сорок лет я здесь живу, не позволю…
Потом она заметила, что мама ее не слушает, дальнозоркими глазами высмотрела Михала в темной прихожей, замолчала и попыталась ласково улыбнуться. Но улыбки не получилось.
— Что случилось? — спросил Миша.
Мама махнула рукой.
— Я схожу за Андулой, хорошо, мама? Возьму ее самокат, и мы пойдем погулять в парк.
Мама кивнула. Закрыла двери в кухню, погладила Мишу по голове и ощупью пробралась по темному коридору в свою комнату. Миша еще слышал, как она ищет рукой ключ. Он решил про себя, что проведет в прихожей свет, даже если бабушка будет ругаться. Ведь, чего доброго, она сама может здесь упасть…
Михал с самокатом через плечо направился к детскому саду. На башне костела часы отбивали шесть. Мальчик взбежал по лесенке и кинулся в раздевалку. Там сидела только одна Андулька. Она отлично проводила время с уборщицей, и когда Михал появился, поздоровалась с ним:
— Здравствуй, Михал! Я сказала маме, что могу ходить в садик сама. А, ты самокат принес! Ну, тогда идем скорее… — и бросилась к выходу.
Михал попрощался с уборщицей и уже на последней ступеньке поймал Андульку за юбочку:
— Куда ты? Под машину хочешь попасть?
— А в наш сад ходит негритенок. У него только ладошки розовые. А на шкафчике у меня снова уточка. У нас есть аквариум и в саду большая песочница. Миша, а бабушка все ругается?
— Я возьму тебя завтра в гости, Андулька, хочешь?
— Конечно! А как же мама?
— Да, мама… — вздохнул Михал и сразу погрустнел.
Мама осторожно закрыла двери.
Страшная, немыслимая комната. Здесь всего по паре. Два окна, на них двойные толстые занавески; две большие старинные постели из черного полированного ореха; два высоких шкафа с резными фронтонами, большой и маленький круглые столы и в нишах между окнами по два стула. Перед печкой, которая никогда не топилась, стоял буфет, весь забитый препротивными, безвкусными сувенирами. Высокие двери вели в следующую длинную комнату.
Мама должна была пробираться через этот хлам, как ловкая ящерица; она цепенела от мысли, как они будут здесь управляться по утрам, когда все будут уходить из дома… Комната была пустая: бабушка разрешила вынести мебель в соседнюю спальню. «Ремонт делать не надо, — сказала она маме, — там все сохранилось со времен постройки. Эти розы на потолке сделаны вручную, такое в наше время не сделает ни один мастер… Сэкономишь, ты должна беречь каждый крейцер, у тебя двое детей».
Мама с грустью оглядела комнату. У окна стояла детская кроватка с веселым клетчатым покрывалом, в одном углу — подушки с тахты, а в другом — спальный мешок Михала; посредине комнаты валялась груда открытых чемоданов.
Пани Бартова уже сто раз перемерила комнату, сто раз передумала, как поставить мебель, но все время получалось, что в ней мог разместиться только один очень скромный человек, но ведь их-то трое!..
Она подняла с пола плюшевого медведя — его принес Андульке отец за день до того, как с ним это случилось, — устало присела на Андулькину постель, погладила медвежонка и тихо заплакала.
ВЫСОКИЙ СТРОЙНЫЙ МИХАЛ
И МАЛЕНЬКАЯ ТОЛСТАЯ АНДУЛЬКА
Высокий стройный Михал и маленькая толстая Андулька ожидали перед школой.
— Стой как следует! Не морщи нос. Ты уже в школу пойдешь на будущий год.
— Миша, купи мне жвачку!
— Мама ходила в эту школу, и я тоже.
— Миша, почему бабушка говорит о маме «эта девчонка»? Миша, а как это наша мама тоже ходила в школу? Разве она была такой же маленькой, как я?
— Когда придут ребята… Подожди, уже звонят.
— Миша, почему у этого дяди такая борода?
— Замолчи, Андула, это пан учитель Штепанек.
— Да, а почему же у него борода, как у хулигана?
— Добрый день, товарищ учитель, — поздоровался Михал.
Учитель улыбнулся:
— Это хорошо, Михал, что ты пришел посмотреть на школу… Смотри-ка, ты стал совсем взрослым!
Михал не знал, что ответить. В отношении учителей Михал придерживался своего особого мнения.
«Вот кончу школу, и они сразу же потеряют власть надо мной, но они, как видно, не догадываются об этом. Никак не могут понять, что мы уже не школьники и можем их не слушаться. Что мне ему ответить: «Да, товарищ учитель, я действительно совсем взрослый, уже почти молодой мужчина». Теперь он наверняка спросит, не сестра ли мне Андула и как мои родители. Я ему отвечу: «Да, это моя сестра. Спасибо за беспокойство, с родителями все в порядке». Об отце, конечно, ни слова. Он начал бы меня жалеть, пришлось бы выслушать наставления: у матери теперь только я, и поэтому я должен… и так далее и тому подобное. Господи, почему взрослые думают, что мы такие глупые и что они должны все нам объяснять, что у нас на уме одно озорство? Мученье!»
