Черничные Глазки, стр. 23
Белка спустилась пониже, но была довольно далеко от меня, на самой опушке вырубленной поляны.
Наконец я не выдержал и спросил:
— Черничные Глазки, это не ты?.. Ну, отвечай! — И стал ждать ответа, а сердце у меня стучало, будто кто-то толкал меня кулаком в грудь изнутри.
Белка пронеслась до самого конца большой ветки, прыгнула, взлетела в воздух и мягко зарылась в глубокий снег. Плавными прыжками перебежала поляну и вдруг мгновенно вскарабкалась, цепляясь по моей куртке, сунула на ходу нос, обследуя карман, и очутилась у меня на плече.
— Глазкин? — выговорил я. — Так это правда ты? — и сейчас же почувствовал, как он своими холодными с мороза лапками ухватился и слегка потянул меня за ухо, вправо-влево, точно пробовал, крепко ли держится, — он так любил всегда делать.
Я плавно повернулся и, осторожно ступая, чтоб не вспугнуть бельчонка, вернулся в избу. Я боялся, что он вот-вот соскочит и удерёт.
Осторожно прикрыл дверь. Черничкин подождал, пока я подойду поближе к моей койке, живо сиганул прямо на подушку и сейчас же сунулся под неё мордочкой… и исчез. Только кончик хвоста торчал из-под подушки.
Выкопал откуда-то из дальнего угла сухую вермишелевую палочку, которую он, оказывается, туда припрятал. Потом он залез опять ко мне на плечо, вермишелька у него торчала изо рта, как папироска, устроился поудобнее и, быстро-быстро работая зубками, принялся аккуратно обгрызать её, поворачивая в лапках.
Под самым ухом у меня хрустело и потрескивало, а я сидел, закрыв глаза, улыбался от радости, и мне просто зареветь хотелось, до того приятно было, что я опять не один и что Черничные Глазки не поступил со мной по-свински, не бросил меня и не позабыл. И мне стало стыдно, что я так раскис за последние дни и мог скверно думать о таком славном приятеле, который сейчас хрустел мне в самое ухо и доверчиво помахивал хвостом, щекоча мне шею.
Мне стало стыдно, что я спешил закрыть за собой дверь, чтоб он не мог удрать, как будто он моя собственность!
Я дал ему ещё вермишели и отворил дверь настежь. И стал ждать, что будет. Черничные Глазки неторопливо сунул себе в рот пучок вермишелек — теперь они торчали не как папироска, а как длинные жёлтые усы, поперёк, — подбежал к порогу и преспокойно выпрыгнул на снег. Плавными волнистыми прыжками он добрался до первой сосны, взлетел по её стволу сразу на высоту третьего этажа, исчез среди веток, и вдруг я увидел его на толстом голом суку. Он сидел рядом с другой белкой, и они вместе грызли вермишель.
Наверное, Черничкин угощал своего братишку или сестрёнку. Но и сам не зевал.
Легко сделалось мне на душе. Я даже перестал бояться, что Черничные Глазки ко мне не вернётся. Ведь у него своя беличья жизнь, а у меня своя. Мы помогли друг другу в беде, и очень хорошо, а теперь хватит раскисать!
Я поставил плетушку под навес крыши и, насыпав туда вермишели, подозвал Черничкина. Ему не очень хотелось бухаться в снег, он раза два оглянулся на меня, нехотя слез, но всё-таки подбежал посмотреть, зачем я его зову. Я взял его, погладил и показал ему плетушку. Он сейчас же хозяйственно стал перебирать лапками вермишель, набил себе полный рот, попробовал запихать ещё, но больше не лезло, и бегом бросился обратно, вспрыгнул на дерево и убежал куда-то прятать свою добычу.
После этого я всю ночь варил себе вермишель на дорогу. Я научился её варить на всякие лады, даже запекать её толстыми, довольно противными лепёшками, вроде сыроватого хлеба — подгорелого снизу и сверху, но зато недопечённого в серёдке.
Пока моя кухня-варилка и кухня-сушилка работала, я всё время представлял себе, чем занят сейчас дружок Черничные Глазки. Наверное, разговоров у них там с бабушкой и с мамой! Разговоров! Черничкин, наверное, расскажет, как он жил в удивительном человечьем гнезде, свитом из толстых деревьев. Как там тепло и никогда нет ветра, как вход там закрывают не комком моха, а дверью и посредине стоит чёрное железное дупло, куда человек толкает куски нарубленных деревьев и сучьев, и чёрное дупло светится даже ночью, там пляшет огонь и оттуда пышет теплом, как летом на горячем солнечном припёке!
Бабушка, наверное, поцокает недоверчиво, почешется и скажет, что Черничкин, кажется, здорово выучился привирать! Хотя она ведь всегда говорила, что люди, в конце концов, такие же белки, только очень уж большие и толстые, так что, к несчастью, не могут жить, как все, и, значит, им волей-неволей приходится как-нибудь изворачиваться, чтоб совсем не пропасть… Не очень-то верится, но, может, они и вправду сумели себе устроить такое светящее и греющее дупло?
А Черничкин всё будет доказывать, что, во всяком случае, его Человек совсем неплохой. Он всегда так осторожно держал его в своих громадных ручищах с множеством страшных, толстых пальцев, которые вдобавок умеют шевелиться каждый отдельно! Сперва так и думаешь: сейчас сожмёт — и конец, пропали мои рёбрышки!.. Но он никогда не сжимал и ни разу даже не укусил! Зато и Черничкин его ни разу не цапнул!.. А вообще-то, конечно, настоящей жизни у людей нет, скучно они живут: играть не умеют, разговору настоящего у них не получается, да и едят они вечно одну вермишель!
И бабушка рассудительно скажет: в такой голодный год и вермишель даже очень годится! Там ещё осталось? С утра пойдём и всё перенесём к себе в кладовки…
Глава 14. Я снова становлюсь человеком
Наступило утро. Я туго забинтовал свою непокорную ногу. Я её перестал бояться. Теперь она могла побаливать, но хозяином ноги всё-таки был я, а не нога — моей хозяйкой!
Ключи я положил на место и рядом положил записку с извинением за всё, что слопал. Потушил печку, взвалил на себя мешок, потяжелевший от вермишели, засунул топор за пояс и подпёр дверь снаружи крепким колом.
Плетушка была уже почти пуста, и я понял, что Черничкин со своими работают вовсю, не покладая лапок, запасаясь на чёрный день. Я насыпал её доверху целой горкой вермишели и сказал:
— Прощай, Черничные Глазки, будь жив и счастлив! Весело встретить тебе новую весну!
После этого я, не оглядываясь, пошёл, как решил уже заранее — прямо к берегу замёрзшей реки.
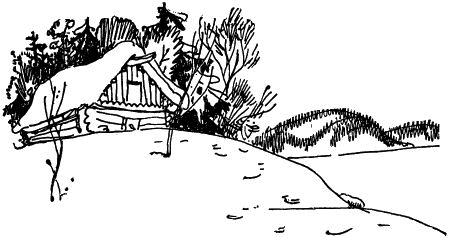
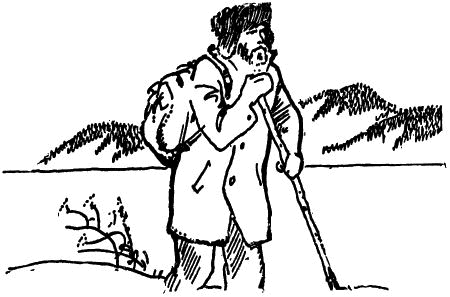
Я шёл очень упорно по снегу, мимо дедовой сторожки, потом по берегу в ту сторону, куда когда-то ушёл мой пароходик, — туда, где за тысячу километров начинались уже большие города, светящиеся среди зимней ночи, шумные железные дороги, скоростные самолётные трассы…
Сейчас, когда всё уже позади, мне приятно вспомнить, что я не остался сидеть в избе, а мужественно, хотя, как выяснилось, совершенно напрасно, пробивал себе дорогу, ночуя у костра на еловых ветках, отогревая замёрзшую за день вермишель.
На четвёртый день меня догнали бежавшие по моему следу лыжники.
Они пробежали восемьдесят километров от своего посёлка, уже побывали в моей избе и теперь разыскивали меня по следу.
Их известили, оказывается, радиограммой, где меня надо искать. Дело было так: в редакции получили все мои снимки до последнего, когда я снял деда в погоне за петухом при посадке на пароход.
Сперва подумали, что я увлёкся и снимаю что-нибудь, по обыкновению, необыкновенное, что мне никто не поручал снимать.
Потом забеспокоились.
Дело перешло в руки опытного человека. Он преспокойно разложил все мои снимки по порядку, и весь мой маршрут ему стал почти ясен. Он нашёл старика сторожа, начальника пристани, и показал ему последнюю фотографию.
Старик признал, что это он и есть, но обругал фотографа, который не дал ему побриться и надеть парадный пиджак. А вот петух получился как вылитый. Меня самого он помнил смутно.
Таким образом, следователь, разложив фотографии по порядку, установил, что эта пристань — последнее место, откуда могли быть ещё посланы снимки. И тогда по радио передали, чтоб вышла партия меня искать. Они меня и нашли.
