Фея горького миндаля, стр. 7
— Возьми, девочка, — сказал он. — Ты можешь гордиться своей мамой.
— А я и горжусь! — ответила Галя.
Но тут мама вдруг отчеканила по-военному:
— Служу Советскому Союзу!
И они обе, мама и Галя, пошли к двери.
Впереди шла Галя с коробочкой, сзади — мама с руками в перевязках.
Внизу, в подъезде, Галя открыла коробочку. Там был орден Отечественной войны — единственный орден, который передаётся по наследству детям.
У входа их поджидала бабушка. Она увидела мамин орден и громко заплакала. Прохожие стали оглядываться, и мама сказала бабушке:
— Перестань, мамочка! Я ведь не одна. Таких много… Ну, не плачь, неудобно!..
Но тут какая-то пожилая женщина, проходившая мимо, заступилась за бабушку.
— Отчего же, — сказала женщина, — конечно, матери очень лестно. И не захочешь, да заплачешь!
Но Галиной бабушке так и не удалось поплакать вволю на улице. Галя тянула её за рукав.
Ей хотелось скорее-скорее рассказать во дворе всем ребятам, как и за что они получили орден.
Фея горького миндаля
Глава I. Молчанка
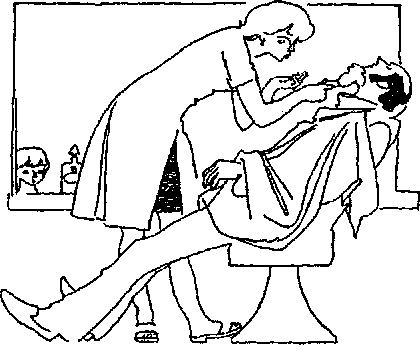
Душно. Крепко пахнет одеколоном. Сонно кружатся в парикмахерской мухи. Устали. Жарко. Они говорят: «Нам жжжарко».
Снаружи, за дверью, — солнце. Белое, оно льётся на землю. Люди ходят взад и вперёд по жаркой земле, что у самого моря. Эта земля называется набережной. Женщины, будто мужчины, одеты в брюки.
Всё на набережной как будто бы пропылилось. Даже деревья. Но ветки у каждого дерева очень зелёные. Ясное дело, они зелёные. Потому что деревья.
Правда, здесь нет ни единого миндаля, а там, где Катя живёт, почти у её порога — миндаль. Он повсюду, кроме бульвара; растёт, где улица, где такси и автобусы, где давка и суета.
Дерево миндаля не зелёное. Оно бело-розовое. Уже почти что сбросило свои цветущие лепестки. Стоит в очень слабом цвету, посредине травы, в том месте, где горка.
Там, где горка, не только трава и миндаль, там ещё и другие деревья.
Зато здесь море и люди в большущих шляпах или косынках и тёмных очках… Здесь море. И парикмахерская.
В парикмахерской все разговаривают друг с другом так громко, будто оглохли. У всех на свете острые голоса.
«Сиди, Катюша, сиди!»… «Тихо-тихо сиди»… «Сиди!»… А чего же ей делать, как не сидеть?! Все всегда хотят одного — чтобы Катя сидела и было тихо… Не замечают тебя, не глядят на тебя, на тебя не хватает времени. Ты — сиди. Ты — молчи!
«А я буду назло про себя разговаривать. Я буду сидеть и шептаться со всеми на свете. Назло. Назло».
Никто не хотел её слушать. Ленились. Они были уверены, что она не скажет им ничего интересного. А ей всегда хотелось говорить. И петь. И вот она научилась разговаривать с каждой щепкой, со стулом, столом, со скрипучей дверью. И ещё она научилась слышать голоса.
Катя была уверена, что всё вокруг и на самом деле умеет говорить, только никто ничего не желает слышать. Потому что некогда. Даже ребятам на их дворе тоже некогда. Катя была самой маленькой. Когда ребята играли в салки, они говорили: «А ты не мешай, а ты не болтай, а ты не путайся под ногами…»
Мир вокруг говорил и пел. Не может же Катя одна всю жизнь промолчать. Верно?
И вот она научилась тихо шептать — разговаривала почти что совсем неслышно. Разговаривала и шевелила при этом пальцами обеих рук. Получалось, как будто руки танцуют.
— Катя! Что ты бормочешь?.. Сиди спокойно.
Она сидела очень спокойно. Сидела, сидела, сидела спокойно возле кассы. На табуретке. Она тихо-тихо шептала что-то себе под нос.
Катила мама работала в парикмахерской, в мужском зале. Мужчины разного возраста входили сюда один за другим и садились в кресла. Из кресла вдруг вырастала какая-то шпунька. Для головы. Нет, для шеи. Нет, для затылков. Затылок того, кто садился в кресло, опирался об эту шпуньку. На мужчин накидывали белые простыни. Им мыли головы. Бритвами скоблили их по щекам. Потом им выщипывали машинкой, чем-то похожей на лесенку, волосы на затылке. Намочив тряпку, от которой шёл пар, их спрашивали:
— Компрессик желаете?
И, не дождавшись ответа, укутывали им щёки и нос в горячую тряпку.
— Массажик?
— Да.
И начиналось самое интересное. Мужчины молчали, а их щипали и хлопали по лицу.
Их щипали, скоблили, укутывали в горячие тряпки; им мыли головы (крепко тёрли ногтями головы), а они молчали, молчали… Все сидели спокойно: мужчины, которых здесь называли «клиентами», и Катя, здесь она называлась «девочкой бригадирши».
— Бедная, бедная бригадирша! Странный ребёнок: сидит и шепчет что-то себе под нос.
В парикмахерской знай бубнили одно: «Короткая полька?», «Канадка?», «Молодёжная?», «Полубокс?», «Советую боксик…», «…прошу вас американский ёжик».
Но ёжика не видно было нигде, сколько Катя ни вглядывалась. На полу лежали разного цвета волосы. Время от времени уборщица подметала волосы шваброй. Швабра кивала, здоровалась с Катей. «Не дури, — шепнула ей Катя. — Мы уже поздоровались».
Швабра взялась за ум, прекратила кивать. Встала в угол. И замерла.
Катина мама осторожненько протянула руку к бутылке-пульверизатору.
— Побрызгать одеколончиком?.. Катя!.. Сиди. Сиди-ка спокойно. (И хвать бутылку. И человеку прямо в лицо, в лицо!)
Эх, если б это сделала Катя! Один раз она с ребятами спряталась за тем самым забором, где расклеивают афиши. Люди подходили читать афиши, а ребята пуляли в них с той стороны забора, через дырочку, из спринцовки. Чистой-чистой водой.
Что тут бы-ыло! Не спрашивайте. Спринцовка! Невидаль! Не видывали воды!..
В парикмахерскую вернулся старик, которого недавно подстригла мама. Он вышел из парикмахерской и опомнился: он хотел, мол, чтобы его подстригли до этих пор, а его, мол, подстригли до этих пор.
Подошёл толстощёкий заведующий. Он сказал: «Клиент — он вправе, Нинель Александровна, мастер обязан прислушиваться к голосу клиентуры».
Старик орал. И мама к нему прислушивалась. Но голос был у того старика до того громкий, что вовсе не надо было прислушиваться — и так отлично слыхать.
Всё смешалось: солнце, мухи, крик старика, волосы на полу… И снова выскочила швабра уборщицы и ну кивать, ну кивать!
Потом настал обеденный перерыв. Дверь в парикмахерскую загородили стулом.
К дверному стеклу (снаружи) подошёл папа. Он сказал маме:
— Эй, рыжая!
А в руках у него был батон, три пончика и два огурца.
Папе открыли дверь (отстранили стул). Он положил еду на стол и увидал Катю.
— Уведи ты её отсюда, терпенья нет! — попросила мама.
— Куда же это я её уведу, интересно? — ответил папа.
— В тартарары, — объяснила мама.
И вот они сели все трое к столу и стали закусывать.
— Ты сыта? — спросила мама у Кати.
— Пить хочу, — ответила Катя.
— Мы не дома, — сказала мама. — Надоела, терпенья нет.
Глава II. Катя уходит в Тартарары
Обеденный перерыв окончился: папа ушёл. В парикмахерской отставили от дверей стул.
— Катя!.. Сиди спокойно.
Катя вздохнула и очень спокойно, перебирая ногами в коричневых, потёртых ботиночках, вышли из парикмахерской; она отправилась в Тартарары: энергично засеменила по набережной своими осенними, коричневыми ботинками.
— Девочка, у тебя спустился чулок.
— Хорошо. Застегните, — миролюбиво сказала Катя.
И пожилая тётка в шляпе, брюках и тёмных очках покорно поправила ей чулок.
Кате и так было хорошо: со спущенным. Но если они хотят…
Жарко. До того жарко, что даже мягко ступать по набережной.
На скамейке, что против моря, сидели женщины и, разувшись, вытянув голые ноги, грели их на ограде набережной. От удовольствия они шевелили босыми пальцами. Ноги были у них как есть совершенно голые. На земле, на асфальте, стояли туфли и сандалеты.
