Моя одиссея, стр. 36
Наутро мы проснулись на койках, а больные лежали на полу. Они вскочили, стали прикладывать нам компрессы и под полою выносить на помойку пустые бутылки. Они не охали, не стонали, глядели испуганно, и теперь это были настоящие больные. Оказывается, ночью мы, санкомовцы, подрались с ними стенка на стенку и мне в этой схватке перебили нос.
— Неладно вышло, — смущенно моргая единственным и тоже подпухшим глазом, говорил Колдыба Хе-хе-хе. — Хорошо хоть, редактор из журнала не увидал. Художники небось водку и нюхать не понимают.
— Так разве мы обмывали рисунки? — возмутился Пашка Резников. Он ткнул большим пальцем на опустевшую койку санкомовца, навсегда покинувшего изолятор. — Взбрызнули проводы вон того паразита. А на красильном заводе, думаю, соображают насчет выпить. Рабочий класс, он везде в авангарде. Ну? Значит, все чин чинарем.
Я молча держал у посиневшей переносицы медный пятак и думал, что теперь наша «могучая кучка» стала распадаться. Когда же и мы, оставшиеся в изоляторе, выйдем «в люди»? Осточертела такая житуха.
ПЕРВЫЙ КЛАССИК
Морозы вдруг сдали, закапало с крыши. Простудные больные забили все наши койки, но никогда еще изолятор не казался мне таким пустым. После ухода санкомовца на красильный завод ни Колдыба, ни Пашка Резников, ни я не взяли кисти в руки; полузасохшие краски, пузырьки с разноцветной тушью, бумага пылились в ящике под столом. Дядя Шура по-прежнему заходил в изолятор, рассказывал что-нибудь интересное, и я все больше привязывался к нему сердцем. Кого-то ведь надо же было любить!
Однажды он остановил меня в ночлежном коридоре:
— Говорят, Виктор, ты занимаешься литературой?
— Я?
— Значит, меня неправильно информировали. — невозмутимо сказал Фурманов.
Я быстро прикинул. Конечно, никто не мог сказать дяде Шуре, что я занимаюсь литературой. Я сам не знал об этом. Да и что означает «заниматься литературой»? Читать книжки? Это я очень любил, но где их достать на Малой Панасовке? Конечно, в городе есть библиотеки, да кто нас отпустит из ночлежки? А вообще интересно: что все-таки Фурманову от меня надо? Я словно бы замялся и сказал тоном доверчивого признания:
— Литературой я не занимаюсь, а вот… сочиняю стихи.
— Даже?
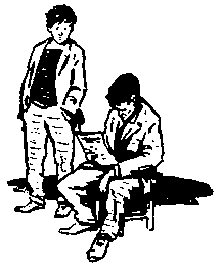
Дядя Шура посмотрел на меня с большим сомнением. Я делал вид, что мне совершенно безразлично, верит он мне или не верит. Мысленно я старался восстановить в памяти одно из стихотворений, сочиненных еще в колонии имени Нансена.
— Значит, ты, Виктор, поэт? Я думал, что у нас один Резников стихи пишет. Ну-ка прочитай что-нибудь, это интересно.
Глядя куда-то в сторону, я забормотал осипшим от волнения голосом:
Дальше у меня описывались два ростовских огольца — дети улицы. Однако место это я забыл и сразу перескочил на середину:
На этом стихотворение заканчивалось. Помню, тогда, в колонии, я не знал, как его продолжить, что делать со своими героями, да и сочинительство мне уже порядком наскучило.
В глазах Фурманова я уловил смешливые искорки, подозрительно спросил:
— Вы, может, думаете, я этот стих у Пушкина списал?
— Нет, — очень серьезно ответил дядя Шура. — Этого я не думаю. У Пушкина таких стихов нет, я хорошо помню.
— То-то.
Фурманов положил мне руку на плечо:
— Раз уж, Виктор, у тебя такая тяга к литературе, я дам тебе бумаги, а ты мне напиши свою автобиографию. Только пиши просто, без всяких прикрас и, конечно, прозой. Договорились?
Этого я не мог пока сказать. Во-первых, еще не знал, как посмотрят ночлежники, когда увидят, что я что-то пишу: может, набьют морду, а то выльют на голову чернильницу. Во-вторых, «автобиография», «проза» — что скрывается под этими словами? И наконец — к чему вообще вся эта петрушка? Зачем она мне нужна?
— Я подумаю, дядя Шура.
— Ладно. Но запомни: если напишешь хорошо, мы напечатаем твою рукопись в журнале «Друг детей» и ты получишь авторский гонорар.
Это совсем меняло дело. Стать писателем? Что ж, пожалуй, можно согласиться. Притом я почему-то сразу понял, что такое гонорар. Я отправился за дядей Шурой в дежурку, и он вручил мне трехкопеечную тетрадь.
В изоляторе я рассказал своему корешу, однорукому вору-рецидивисту Колдыбе Хе-хе-хе, что дядя Шура подбивает меня написать какую-то автобиографию: уж не допросный ли это лист?
— Не дрейфь, Витек, — успокоил меня Колдыба. — Автобиографий — это подробное описание твоего батьки, в каких местах ты скитался на воле и сколько раз сидел в тюрьме. Ведь дядя Шура учится на доктора-психопата… это которые чокнутых лечат. Вот и интересуется насчет беспризорников. Мы ж дефективные. Понял? Я сам тоже писал для него автобиографий, ну и, конечно, все натрепал до последнего слова.
— Тогда сочиню и я. Жалко, что ли, для хорошего человека?
Я достал табачку и засел на всю ночь. А что, в самом деле: в журнале «Друг детей» печатались наши рисунки, почему бы там не появиться и моей «прозе»?
Изолятор заснул. На дворе за черно отсвечивающим окном смутно мерцал снег, неясно проступала глухая кирпичная стена у помойки. Я решил описать, как ездил на товарняке — «Максиме Горьком», как меня раздели под станцией Ряжск. Однако, к удивлению, из рукописи выяснилось, что я вовсе не скромный, начинающий урка, а грозный налетчик Витена Железная Челюсть. В октябре этого года я, оказывается, ограбил страшно богатого нэпмана вот с таким пузом: денег снял миллион и стал ежедневно пить ситро и раскатывать по Харькову на трамваях. Конечно, разоделся в пух и прах: купил рубаху апаш, брюки клеш, лаковые башмаки. Одна очень фасонистая девка сделалась от меня без ума, я водил ее в кино, кормил пирожными и все такое. Вот уже несколько лет, как меня выслеживали поголовно все сыщики Советской России, но я был совершенно неуловим. Временами я скрывался в ночлежке по Малой Панасовской, 25, как, например, было и теперь. Но и тут, положив в каждый карман по револьверу, я делал по ночам «громкие дела», и весь город дрожал от моего имени.
О дальнейшей своей головокружительной жизни я написать ничего не мог, так как не хватило тетрадки. А жаль: я уже разохотился и готов был не спать еще сутки. Мне пришлось лечь в постель; ребята еле разбудили меня к обходу врача.
После завтрака я прочитал свое творение в изоляторе.
— И ты в литературу? — удивился Пашка Резников. — Будем коллегами.
— Брешешь, Витек, что все из головы, — сказал Колдыба Хе-хе-хе, чуть побледнев.
— Вот… подлец буду, — ответил я и перекрестился. Колдыба Хе-хе-хе вдруг крепко пожал мне руку. Больные молча смотрели с кроватей.
— Как думаешь, примут в журнале? — скромно спросил я. Мне хотелось показать огольцам, что я хоть уже и стал писателем, но не думаю задаваться.
— Спрашиваешь, — ответил Колдыба. — В этом сочинении у тебя все в точку. Вот нэпмана ты ограбил — правильно, Советская власть это одобряет. Только б надо описать, что когда ты снял с него «рыжие бочата [2]», то прислонил к стенке — и на луну [3]. Сгнить мне в легавке, если цензура прицепится. Я в Сумах в тюрьме сидел, и попалась мне книжка. Растрепанная. О том, как греки промеж себя дрались, а на горе сидел ихний бог Завес с молоньей в руке и оттуда руководил. Вот мура, верно? Кто этому поверит. И было припечатано, будто эта книжка взята из «сокровища мировой литературы». Уж твоя «Личная автобиография» куда занятней, редакция ее бесприменно примет.
2
«Рыжие бочата» — золотые часы.
3
Отправить на луну — расстрелять.
