Нам вольность первый прорицал: Радищев. Страницы жизни, стр. 14
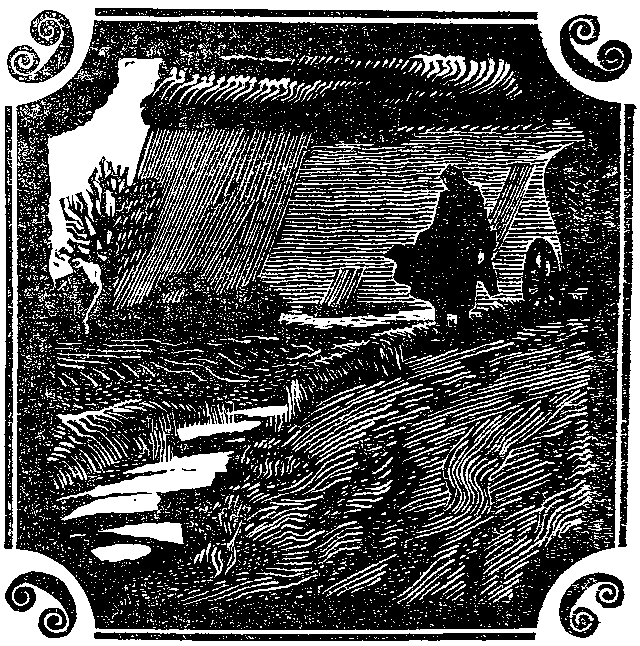
Радищев молчал. Воронцов подождал немного и продолжал:
— «Исполнение запретительных законов основано на ненавистном в общежитии качестве сердца человеческого — на вероломстве; доносчик, полезный государству, обществом ненавидим».
Александр Романович задумчиво побарабанил по столу, удержал вздох.
— Далее. «Чем меньше наказания, тем народ прямодушнее…» Спорно. О рекрутском наборе вы толкуете как о зле, сокращающем народонаселение: «Какое множество воинов! Какое опустошение!» Мне нравится ваша искренность, но она наивна. И что скажет императрица, когда прочитает сей доклад?
Александр Романович слегка закинул назад голову и вопросительно посмотрел на Радищева. На строго очерченном волевом лице президента играла чуть заметная улыбка. Радищев молчал.
— Впрочем, не подумайте, что я против снижения налогов. Нет, я доказываю императрице и генерал-прокурору Вяземскому, что умножение налогов устрашит людей, стеснить может рукоделие и свободу промыслов. Тут я с вами заодно. Но есть много позиций рискованных и спорных. «Чем меньше наказания, тем народ прямодушнее» — полагаю, это надо вычеркнуть.
— Нет, — вдруг поднял голову Радищев. В расширившихся зрачках его плеснулся огонь. — Эта мысль для меня бесспорна.
— И злодею Пугачеву вы бы стали уменьшать наказание, чтобы его превратить в овечку? — сухо осведомился Александр Романович.
— Отчего возник Пугачев? От крайностей крестьянского положения.
— Зверство в людях просыпается порою. Оттого и Пугачев возник.
— Согласиться не могу. — Радищев вскочил будто пронизанный током. — Вы слышали об убийстве помещиков в Зайцеве? Неужели крестьяне решились на крайность только оттого, что в них пробудилось зверство? Помещик посадил их на барщину, отнял земли, скотину скупил по цене, которую сам назначил, заставил работать на себя, сек розгами, а кормил на господском дворе. И бывало, наливал щи в корыто — хлебайте! Но и это терпели крестьяне. Когда же сын помещика насильно взял себе в наложницы молодую девку, то терпению пришел конец. Жених защищал честь невесты и ударил колом сына помещика. Жениха наказали палками. Битье он стерпел. Но не мог терпеть, когда невесту повели снова в дом к помещику. Он выхватил ее из рук насильников и попытался убежать. Но был остановлен. За него заступились крестьяне. Старик помещик подбежал к ним, стал бранить, а одного ударил палкой, да столь сильно, что тот упал на землю бесчувственным. И вот это было сигналом к общему наступлению. Крестьяне убили помещика и его сыновей. Можно ли их обвинять?
Теперь молчал Воронцов. Радищев кружил по кабинету, иногда хватал образцы товаров: кусок минерала, слиток железа, рассеянно крутил в руках, будто примеривал, оружие, клал на место, снова метался по комнате, и китайские драпировки на стене шевелились от ветра, вызванного его движениями по кабинету.
— А вот другая повесть, — быстро сказал Радищев. — Ваньке, крепостному слуге, некий дворянин дал образование столь же тонкое, как и своему сыну. На семнадцатом году старый барин посылает сына за границу вместе с Ванюшей и говорит ему на прощанье: «Ты раб в пределах сего государства, но вне оного ты свободен. Вернешься домой и своих цепей более не найдешь». Пять счастливых лет провели молодые люди в Европе. Возвращаются в Россию. Увы, благодетель Ванюшин умер и не успел дать ему вольную. А молодой барин влюбился в изрядную лицом девицу, которая с красотою телесною соединяла скаредную душу и жестокое сердце. Надменная супруга вскоре превратила Ванюшу снова в холопа Ваньку, велела ему убираться из господских комнат. Но тем дело не кончилось. Племянник сей барыни, московский щеголь, влюбился в горничную и сделал ее матерью. Барыня племянника побранила слегка и решила прикрыть его грех насильной женитьбой, и Ваньку назначили в мужья горничной. Тот воспротивился. Его нещадно высекли и отдали в солдаты. Есть ли у него право выступить против своей участи?
Воронцов молчал. Радищев опустился в кресло.
— Прошу прощения. Я раскричался, как гусак, на которого замахнулись палкой.
— Жаль, что слова мои вам показались палкой. Мне почудился бунтовщик Катилина в некоторых фразах вашего доклада, и я хотел остановить Катилину.
— Я не Каталина. Я просто вспыльчивый таможенник.
— Таможенному чиновнику нельзя быть вспыльчивым. — Александр Романович ласково улыбнулся. — Однако ваш доклад я принужден задержать.
Воронцов посмотрел на Радищева виновато.
Василий Кириллович вошел к дочери и почти рухнул в кресло. Его глаза дико блуждали, и на расспросы он не отвечал. Анна кликнула слуг, терла отцу виски, делала холодные примочки, давала нюхать морскую соль — он казался бесчувственным.
Лишь спустя полчаса Василий Кириллович пришел в себя и стал рассказывать.
Нет, не о повышении в чин была эта повесть: кабинет-министр Елагин ледяным тоном принялся делать камер-фурьеру выговор. Как смел Василий Кириллович писать наследнику? Как смел сочинять изветы о своих мелких обидах? Наследнику стал жаловаться на невнимание государыни — не свидетельство ли сие его морального падения? Он мог обратиться прямо к государыне! Однако он предпочел путь заговорщика. Тайное злонамеренное письмо с попыткой поссорить мать с сыном! Императрица очень гневалась и приказала сделать ее именем крепкий выговор обнаглевшему камер-фурьеру…
Слезы текли по щекам старика.
— Анечка, это за мою беспорочную службу! Денно и нощно я стоял на посту. Ни единой помарки в журнале, ни одна блоха не укрылась от меня. Все записано, минута в минуту, на века!
Он не мог успокоиться. Вскоре сердечные боли заставили его лечь в постель.
С той минуты деятельный Василий Кириллович потерял всякий вкус к жизни. Он безучастно лежал целыми днями, разговаривал неохотно и даже ничего не ответил, когда Анна Васильевна спросила, не будет ли он против, если они пригласят вечером известного композитора, скрипача и дирижера Пезибля.
Состояние его постепенно ухудшалось, и однажды он слабым голосом позвал жену и дочь и сказал:
— Пусть Анечка выходит за Радищева. Это перст судьбы. Я скоро умру и хочу, чтобы свадьбу сыграли скорее.
Акилина Павловна начала уверять, что это у него приступ меланхолии, что он скоро поправится и будет снова бодрым и веселым, но Василий Кириллович раздраженно махнул рукой:
— Делайте, как я велю.
Анна поцеловала отцу руку. Акилина Павловна, не терпящая обычно чужого мнения, на этот раз покорно согласилась.
…Венчали молодых в Москве, и свадебное торжество слилось с державным громом колоколов по случаю победы над Пугачевым. Победное торжество было долгим, свадебное вскоре оборвалось: умер Василий Кириллович.
ТЕРНОВОЕ КОЛЬЦО
Утро императрицы было хлопотным. Секретарь докладывал пункты о делах утомительных, а порой — тягостных и темных: о рожденной в муках «Жалованной грамоте дворянству», о лихоимстве Романа Ларионовича Воронцова, наместника Тамбовского, Владимирского, Пензенского, о происках британского премьера Питта, пытавшегося всячески насолить России.
«Жалованную грамоту» читала с напряжением, с сознанием исторического момента: дворянское сословие получало привилегии, о коих мечтало давно. Написала, что чувствует великую склонность чтить древние роды, уважает их права, понимает, что обязательная служба для дворянства будет обременительной, потому что служить с охотой надо. Она вздохнула: пусть не служат, коли не хотят… На робкое замечание Храповицкого, что дворяне сейчас ревностнее относятся к государственной службе, ибо просвещеннее стали, отозвалась ворчливо: «Все толкуете об учении, нигде — о нравах, кои нужнее учений».
От пестроты пунктов кружилась голова. Роман Ларионович Воронцов совсем меры не чует. Удивительные дела: Александр Романович — человек щепетильный, безупречно честный, а его отец — царь взяточников. «Роман — большой карман». Три губернии стонут. Она распорядилась послать ему в подарок длинный вязаный кошель. Небось, поймет лихоимец, что она знает о его проделках. И осталась довольна тонкостью своего хода…
