Сердце Бонивура, стр. 95
Слова эти вышибли из-под ног Пашки почву, лишили его той маленькой тусклой мечты, с которой до сих пор он жил…
…Скрыть случая с подрывом мины не удалось. На отрядном собрании никто из партизан не взял его под защиту. Это быт почти полный крах.
Бонивур предложил исключить Панцырню за трусость из отряда.
— Выгнать из отряда легче лёгкого! — сказал, однако, Топорков. — А чуда он потом пойдёт — нам не все равно. Парень ещё молодой, из него человека сделать можно, хотя в голове у него сейчас… — он махнул рукой. — А в шоры взять надо, да покрепче! Помни, Панцырня! — сказал он Пашке. — Третьей промашки у тебя не будет, а две уже было. Говорили с тобой довольно. Коли голова тебе дорога, держись да не падай…
Пять дней шли бои под Иманом…
Истомлённые пятидневными боями, обескровленные и обессиленные части Дитерихса неспособны были сделать более ни одного усилия.
Стекавшиеся со всех участков фронта в штаб НРА сводки одна за другой сообщали: «Атаки противника отбиты с большими для него потерями. Приготовлений к новым атакам со стороны белых незаметно».
…В последнюю атаку командиры Земской рати не могли поднять солдат. Уфимские стрелки отказались идти под пули народоармейцев. Командир четвёртой роты штабс-капитан Войтинский расстрелял двух солдат, которые пытались бежать в тыл. Через час он сам был убит выстрелом в затылок. В Ижевском полку потери достигли семидесяти пяти процентов личного состава. В отдельных ротах уцелели по десять — двенадцать человек, и идти в атаку было некому. Тридцать третий Омский полк, попятившийся назад, был встречен огнём пулемётчиков офицерского заградительного отряда и японцев и потерял убитыми и ранеными до трехсот нижних чинов и унтер-офицеров. Командир полка застрелился.
Красные разведчики сообщали изо всех сел, занимаемых белыми, что настроение у солдат подавленное, кое-где они митингуют. Допрашиваемые перебежчики показывали: «Кабы не японские войска в третьих эшелонах, какой бы дурак полез на рожон!..»
В штаб НРА прибывали посланцы из партизанских отрядов. Дядя Коля приказал им держать связь непосредственно со штабом, принимая отдельные поручения Реввоенсовета ДВР для содействия наступавшей Пятой армии.
Партизанских гонцов принимал командующий. Он внимательно присматривался к прибывавшим, щуря свои светлые глаза. Скупыми словами, не оставлявшими никаких сомнений или недоумений, он разъяснял задачу, которую надо было выполнить отряду в тылу у белых. Его неторопливая, большая, белая, с длинными сильными пальцами рука начинала скользить по карте, отмечая расположение, численность отрядов, их взаимодействие с соседями.
В один из таких моментов в комнату вошёл Алёша Пужняк, посланный по заданию дяди Коли для личной связи отряда Топоркова со штабом.
Увидев тесный круг людей вокруг карты, лежавшей на столе, Алёша не посмел нарушить сосредоточенное молчание, сопутствующее важным делам и решениям. Впустивший его ординарец кивнул головой на командующего: вот, мол, сам — и вышел.
В это время командующий негромко сказал:
— Картина почти полная. Неясно только, на что мы можем рассчитывать в районе Раздольного. А именно там следовало бы кое-что предпринять. — Он обратился к кому-то из штабных: — Проверьте, нет ли кого-нибудь оттуда?
Алёша козырнул:
— Разрешите? Из отряда Топоркова связной Алексей Пужняк.
Начштаба выслушал его. Пальцем поманил к себе.
— В карте разбираетесь? Письменных предписаний не дам — возвращаться придётся через фронт. Понимаете? Поэтому запомните хорошенько все, что вы должны передать командиру Топоркову…
Через час в сопровождении двух вооружённых конных Алёша на всем скаку пересёк линию фронта. Передал коня ожидавшим его железнодорожникам, распростился с провожатыми и, забравшись в тендер паровоза, шедшего на юг, к утру достиг расположения соседнего с Топорковым партизанского отряда.
В четыре утра Пятая армия перешла в наступление. Артиллерия прямой наводкой расстреляла позиции белых. Зарницы взрывов обагрили рассвет. А вслед за артиллерийским обстрелом, превратившим в кромешный ад все поле предстоящей атаки, лавиной хлынули забайкальские кавалеристы на своих низких, мохнатых и свирепых нравом монгольских лошадках, которые зверели, слыша свист сабель и гиканье всадников. С конниками шли тачанки. Храпящие кони, пулемётное татаканье, ливень пуль… Передовые охранения и первые эшелоны Земской рати были смяты. Напрасно пытались белые офицеры остановить бегущих солдат. Из санитарных фур выбрасывали раненых. Ездовые резали постромки, чтобы скорее уйти от опасности. Артиллерийские расчёты бросали орудия. Пулемётчики забывали о пулемётах. Пехотинцы сбрасывали с себя всю выкладку. Вестовые бежали от своих подопечных офицеров. Офицеры на конях скрывались от своих солдат.
…В этом стремительном отступлении, уже через час превратившемся в беспорядочное бегство, все перемешалось — дивизии, полки, батальоны, роты. Самая возможность организованного сопротивления исчезла. Японцы в третьих эшелонах попятились…
Паника охватила войска белых.
Противостоять панике никто не мог. В это утро оказалось, что никто не хочет погибать за Дитерихса. Все — и генералы, и офицеры, и солдаты — думали не о выполнении бредовой идеи балтийского немчика, а лишь о спасении своей жизни.
Народно-революционная армия на всем протяжении прорвала фронт белых.
Расчищая ей путь, партизанские отряды блокировали вражеские гарнизоны.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ИДУЩИЕ ВПЕРЁД
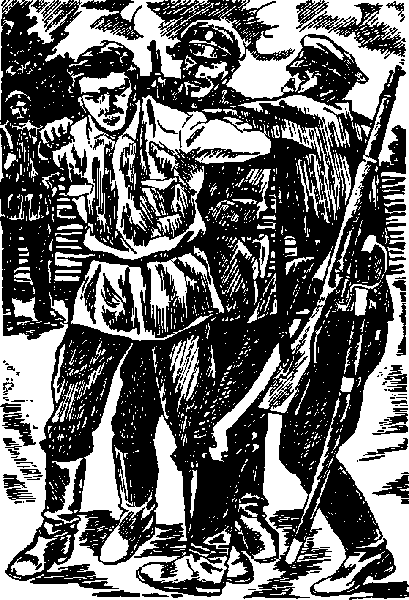
Глава двадцать первая
СЕЛО
Длинные золотые нити, поблёскивая в лучах солнца, проносятся над селом. Бабье лето! Самое время ходить по ягоды, по орехи.
Но на сопках, в орешнике — посты, дозоры.
…Колодяжный устроился в развилине вяза. Снял с себя ватник, сложил вчетверо и уселся, поставив винтовку меж колен. Листва закрывала его со всех сторон. Не поворачивая головы, прищурившись, он оглядывал окрестность. Его глаза окружены сеткой мелких морщинок. От солнца и ветра кожа на лице и на руках стала коричневой, словно дублёной. Лишь в складках самых глубоких морщин, когда старик поднимает голову, виднеется белая, бледная кожа. Сдвинул Колодяжный на затылок старенькую ушанку с выцветшей красной лентой, седые волосы его засеребрились на свету. Ветер разметал их, спутал, вздыбил кверху чубом, и старик сразу стал бравым, словно ветер скинул с него много лет. Видно, в молодости был он заводилой, гулякой, первым парнем на деревне…
Ничто не нарушает тишины ясного утра. Лишь чуть слышно ветер шелестит ветвями вязов, сосен, берёз, орешника. Тепло сморило старика, сами собой закрывались его глаза. Борясь с дремотой, он вынул кисет, бумагу, насыпал табаку и ловко скрутил цигарку. Зажёг спичку и закурил. Щурясь от едкого крепкого дыма, осмотрелся.
Вьются над орешником стрекозы. Проплыла мимо нитка паутины. Зеленые кузнечики, прыгая, шевелят траву и надоедливо стрекочут. Красный муравей пробежал по ветке, вылез на листик, торопливо обшарил его, привстал, повертел головкой и прыгнул вниз.
Колодяжный вздохнул:
— Благодать-то какая!
Неясный шорох привлёк его внимание. Он прислушался.
Кустарник справа зашевелился. Старик бросил цигарку, сбил на глаза ушанку, присел. Выждав, крикнул:
— Стой!
Движение в кустах прекратилось. Старик лязгнул затвором.
— Вылазь, а то стрелять буду!
Кусты раздвинулись. Из-за них выглянул мальчуган. Одет он был в полинявшую от стирки и солнца рубашку, застёгнутую одной пуговицей на шее, и чёрные штанишки. Лицо мальчугана с коротким носом, покрытым веснушками, маленький треугольником рот, острые, что шило, глаза, белые, почти незаметные брови — все выразило изумление. Он не ожидал встретить здесь кого-либо. Озираясь, он повёл по сторонам головой с оттопыренными ушами. Старик вышел из-за кустов, изобразив на лице строгость.
