Набат. Книга первая: Паутина, стр. 44
В истерическом этом, более похожем на стон боли, смехе звучали ноты торжества и гордости.
— Доктора, — приказал Гриневич. — Скачите в Павлиний сарай. Привезите доктора. Быстро. — И наклонился над койкой: — Лежи, лежи, Юнус…
Юнус поднялся на локтях, с прерывистыми хрипами заговорил:
— Зачем доктор… Пропал Юнус… Помирает Юнус, командир, подымай красных солдат… Делай тревогу… Война в Бухаре будет сегодня, война будет… Сейчас, сегодня ночью война начнется…
— Успокойся, лежи. Такие, как ты, не умирают.
— Ох, командир, плохо… совсем плохо… — Юнус говорил с трудом. — Мясо со спины ободрали… огнем жгли… командир… слушай, командир… Они хотят сжечь поезд, сжечь снаряды…
— Какие снаряды?!..
Юнус вцепился в отвороты шинели Алексея Панфиловича, и в лицо командиру пахнуло прелой кровью.
— Подговаривал меня… деньги сулил… подлецом хотел сделать. Нет… командир!
И он упал со стоном, глаза его закатились.
— Доктора… скорее, — крикнул во весь голос Гриневич.
В дверях уже стоял Петр Иванович.
— Иду, иду, что еще приключилось?
— Доктор, делайте все что хотите, только спасите. — Гриневич показал головой на Юнуса и кинулся во двор.
Пожав плечами, доктор осторожными пальцами начал расстегивать и отворачивать кровавые обгоревшие лохмотья.
— Ай-яй-яй, — бормотал он. — Ну и звери… настоящие звери. Где это они тебя так, батенька?..
Часть вторая
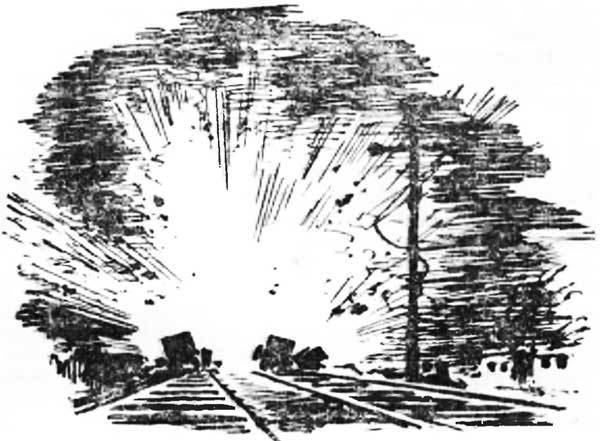
Глава восемнадцатая
Первые раскаты
Барабанный бой предпочтительно слушать издали.
Легко о войне кричать, трудно воевать.
Все в комнате задвигались, зашевелились. Грузный, с апоплексическим затылком бородач нервически поставил пиалу недопитого чая на дастархан, снова взял ее, но тут в двери показалась странная, уродливая фигура; пиала вывернулась из холеных пальцев, и чай разлился, оставляя на светлом шелке расползающееся пятно с темными чаинками посередине. Жирная, с одутловатыми щеками физиономия хозяина налилась кровью. Так хорошо он приготовил все к приему высокого гостя — и нате же! Беспорядок!
Заглянувший в дверь тощий человек вытянул шею и каким-то замогильным голосом бросил в михманхану одно слово: «Они!», прозвучавшее словно выстрел. Оглядев мгновенно лица всех сидящих в комнате и недоверчиво кашлянув, человечек скользнул вбок и прижался к стене. Многие уж не раз встречались с ним, но вид его, как всегда, поразил, а некоторых даже напугал. На хрящеватой, кадыкастой шее сидел маленький, точно вылепленный из желтого воска череп с провалами глазниц, с синеватым хрящиком вместо носа, с рваной щелью вместо рта. Макушку совершенно лысого и бугристого тыквообразного черепа венчала малиновая, изрядно потертая, видавшая виды феска с черной, побитой молью кисточкой. И хоть все знали, что Шукри-эфенди — адъютант и верный пес Энвербея, все же его голова мертвеца вызвала у многих неприятный озноб. Из денщиков времен салоникского восстания Шукри выслужился в адъютанты и сейчас ходил в немалом чине майора и именовался эфенди, хотя по-прежнему оставался денщиком по кругозору и понятиям.
Все замерли. Все головы повернулись к двери. Шеи от напряжения у всех свело… И только тогда послышался звон шпор.
Резкий каркающий звук заставил всех вздрогнуть. В первое мгновение никто не сообразил, в чем дело. И только видя, что рот человека в феске открывается и захлопывается, все поняли, откуда исходят звуки.
— Их высокопревосходительство, вице… хр… генералиссимус, хр… армии турецкой империи… хр… зять халифа… хр… правоверных… господин Энвербей… хр…
Каждое слово адъютант сопровождал резким звуком «хр», точно его эмфизематическим легким не хватало воздуха. При последнем «хр» в прямоугольнике открытой двери вырисовался черный силуэт Энвера. Свет из двери ослепил сидевших в полумраке гостей, и они не смогли сразу разглядеть вошедшего. И без того небольшой рост Энвербея скрадывался ярким потоком света. Наконец поднявшийся горбылем у самого порога ковер чуть не привел к неприятностям — шпора зацепилась за него, и их высокопревосходительство сделал несколько смешных прыжков и удержался на ногах с величайшим трудом, попав ногой в самую середину серебряного подноса с виноградом и лепешками.
Тяжело дыша и свирепо шевеля усами, Энвербей, продолжая стоять в нелепой позе, злобно всматривался в лица. Он хотел войти в михманхану четким, строевым шагом, сразу же показать, что он прежде всего военный. Он же предупреждал: никаких дастарханов.
Энвербей искал глазами стул, чтобы сесть, ибо он обычно никогда не сидел на полу, по-восточному поджав под себя ноги. И потому, что во всей михманхане не оказалось ни кресла, ни стула, лицо Энвербея исказилось злобной гримасой. Злило его и то, что все присутствующие откровенно вперили в него взгляды, рассматривая его нагло и в то же время с опаской. Где же восторженные приветствия, выражения раболепного восхищения?
Так и стоял он, генералиссимус, его высокопревосходительство, зять халифа, выставленный на всеобщее обозрение купчишкам и скототорговцам, как он называл их в душе с нескрываемым презрением.
Он, которому, как равному, жали еще недавно руку президенты и короли, премьер-министры и финансовые магнаты, он, перед которым заискивали всесильные англичане и американцы, теперь должен сам заискивать перед какими-то ленивыми азиатами, заплывшими жиром бухарцами, забывшими уже много веков воинскую славу своих праотцев и погрязших в разврате и мелких ростовщических делишках. Энвербей смотрел на обрюзгшие, лоснящиеся физиономии и пытался заглянуть в блудливо убегающие куда-то в сторону азиатские глаза, проклиная в душе час, когда он дал согласие прийти сюда. С яростью он бормотал: «Под огонь их, под огонь… расшевелить мерзавцев».
И он шагнул вперед. Жалобно и нежно зазвенел отшвырнутый сапогом поднос, затрещал разрываемый шпорой шелк дастархана.
Не обращая внимания на стон ужаса, вырвавшийся у присутствующих при виде такого неприличия, зять халифа выпрямился во весь свой небольшой рост и выпятил вперед грудь, обтянутую очень элегантно сшитым мундиром цвета хаки.
Красивое лицо Энвер а с черными суетливыми глазами и холеными черными усиками не понравилось многим из тех, кто видел зятя халифа впервые. Чрезмерная моложавость, выражение неумеренного самодовольства, самоуверенности отпугивали бухарцев. Чего-чего, а самодовольства и высокомерия у них самих было более чем достаточно.
О, они себя чувствовали государственными деятелями, умеющими постоять за себя, отцами народа, властителями жизни, судеб миллионов. Для них теперь Турция с ее подозрительной кемалистской революцией начинала терять свою привлекательность, и в глубине души многие из них совершенно серьезно лелеяли мысль о великом Туркестанском государстве — от Урала до Индии и от Черного моря до Алтая, со столицей в тысячелетней Бухаре.
Замешательство продолжалось недолго. Вскочил, кряхтя и сопя, неопрятный толстяк, и Энвер почти сразу же узнал в нем, главным образом по прыщам, торговца каракулем Хаджи Акбара, который изрядно надоел ему еще тогда, в Берлине, в доме так называемого «Мусульманского революционного общества».
Прижимая руку к животу, Хаджи Акбар отвесил глубочайший поклон и заговорил:
— О, пожалуйте, о властитель наших дум, о, пожалуйте… те… те… Благомыслящие бухарские мусульмане всегда восхищались деяниями, те… вы зять святейшего халифа, сумевший укрепить незыблемый фундамент халифата (кто-то непочтительно хмыкнул), о… вознес эмблему звезды и полумесяца над миром (еще кто-то выразительно кашлянул), имя ваше, о великий мудрец, подобный… те… те… и воин… равный покорителю мира Тимуру (теперь недовольно поморщился Энвербей, вспомнив разгром армии турецкого султана Баязета Тимуром).
