Как мы росли, стр. 25
— Матрёшка безглазая! — горевала Варя.
— А ты пришей пуговки — будут глаза, — советовала бабушка.
— Что ты! Разве это глаза — пуговицы!
— Вот я буду ходить по городу, — сказал Гриша, — куплю тебе куклу.
Бабушка засмеялась:
— Теперь-то куклу? Где же это ты купишь? На Сухаревке не продают. В магазине только соль, спички, и то по карточкам. Какую там куклу…
— Мне хоть бы маленькую-маленькую! Ты, бабушка, не знаешь — может быть, где-нибудь и продают, — сказала Варя.
— Может, и продают, — сказала бабушка, — только мне что-то не попадались.
Через две недели, с трудом переставляя больные ноги, Гриша пришёл в военкомат. С ним беседовал командир. Гриша выхлопотал у него для Федосьи Аполлоновны карточку «Красной звезды», по которой давали паёк.
— Понимаете, она меня кормила, никого не беспокоила, — говорил Гриша. — Теперь получит — очень будет рада.
Командир выписал Грише направление в госпиталь — на поправку:
— Непременно на поправку, а потом поедете в часть.
Гриша сложил документы, поблагодарил, но не поднимался со стула.
— У меня к вам есть ещё одна просьба, — сказал он. — Может быть, она вам, товарищ командир, покажется странной. Понимаете, у Кирилиной есть внучка — дочь погибшего Кирилина. Она сейчас в детском доме, так что всё необходимое у девочки есть.
Командир по-прежнему внимательно слушал Гришу и недоумевал, почему разговор идёт о какой-то девочке. А Гриша, подбирая слова, объяснял ему свою просьбу:
— Понимаете, очень нужна кукла! Может быть, на базе найдётся? Я сам ей обещал, какая только найдётся.
— Я не знаю… может быть, и дадут, а может быть, руками разведут, — сказал командир, выписывая ордер. — Вы бы, товарищ, лучше себе сапоги попросили — ноги-то больные.
— Сапоги ещё вполне хорошие, и потом я сейчас не на фронте. А вам спасибо! — И обрадованный Гриша пошёл на базу получать по ордеру куклу…
— Меня, знаете, тётя Фенечка, наверно, за сумасшедшего приняли, — рассказывал он. — Когда ордер прочитали, глазам не поверили. Хорошо, одна девушка… славная девушка… побежала в подвал искать. «Где-то у нас, говорит, были игрушки, остались от Мюра и Мерилиза». Вот и нашла! — И Гриша подарил Варе куклу.
Красавица
Кукла была красавица. Когда Варя принесла её в детский дом, девочки целый день от неё не отходили.
— Мы все будем играть, все! — говорила Варя.
— Ты не давай её руками-то трогать, — наставляла Клавка, — пусть сидит.
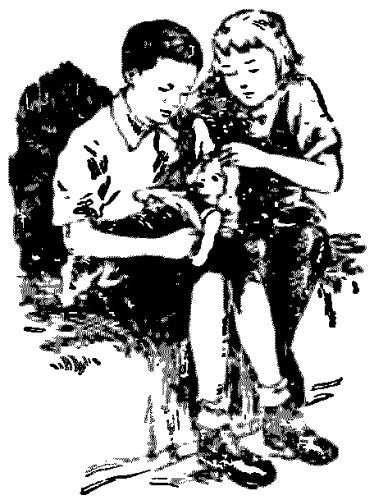
Куклу посадили в подушки, и началась игра. Девочки шили для куклы платья, стегали матрасик, одеяло. Леночка Егорова была повариха. Она готовила обед для куклы, пекла пироги, украшенные камешками и толчёным кирпичом.
— Ой, подгорело! — кричала Леночка. И стряпуха шипела, представляя горячую плиту и раскалённые сковороды.
Словом, для куклы делалось всё, что только можно. Когда всё было сшито, сварено и испечено, решили для куклы показать спектакль.
— Я буду Оксана Григорьевна, — сказала Варя. — Сейчас мы устроим занавес и будем представлять.
И Варя, подражая Оксане Григорьевне, стала выпускать на сцену певцов, танцоров и рассказчиков.
Кукла не мигая глядела на артистов, которые, сменяя друг друга, старались ей угодить. Проявились таланты, каких никто и не знал. Когда очередь выступать дошла до Люськи, она не замотала, как всегда, головой и не стала говорить: «Ой, не буду, не буду!» — а тут же, всем на удивление, запела никому не знакомую песенку:
Пела она так хорошо — звонко и просто.
— Ещё, ещё спой! — стали её просить.
И она спела песенку ещё раз и ещё. Одна только Клавка сидела целый день сложа руки. Она не шила, не пекла для куклы пирогов, не пела ей песен. Но, если кто-нибудь хотел прикоснуться к кукле, Клавка набрасывалась, как коршун:
— Зачем цапаешь руками! Кто это тебе разрешил? Вот я тебе цапну!
Поздно вечером, когда все уже легли спать, Клавка спросила Варю:
— Как же её назвать?
— А я и забыла, — сказала Варя, — что мы её ещё никак не назвали. Завтра придумаем, дадим ей какое-нибудь имя.
— Зачем какое-нибудь! Её надо назвать так, как никого не зовут, — сказала Клавка.
Было ещё очень рано. Кукла лежала в корзиночке; она спала, закрыв глаза, и безмятежно улыбалась. Варя тоже спала. А Клавка давно проснулась и рассматривала куклу: кудрявая какая!
С опаской поглядывая на спящую Варю, Клавка потянула корзиночку к себе. Корзиночка накренилась, и кукла скользнула на пол. Клавка подняла её и… онемела. Вместо улыбающегося лица — фарфоровые черепки. Разбила!
Варя проснулась и глядела на Клавку:
— Что ты?
— Разбила! Буржуйская кукла, непрочная, — сказала Клавка.
Варя молчала. Плакать она не плакала. Но была у неё такая обида, которую и не выскажешь: кукла, о которой она столько мечтала, которую только во сне видела, — и вот одни черепочки!
— Голову-то ей можно новую приделать, — продолжала говорить Клавка.
И вдруг, чего Варя совсем не ожидала, Клавка заревела во весь голос. Эта разбитая кукла была перовой в жизни Клавки куклой, которую она держала в руках.
Варя убрала куклу под подушку, а потом унесла к бабушке и спрятала в нижний ящик шкафа, который бабушка почти никогда не открывала: там лежали папины книги.
Про Клавкину жизнь
Про Клавкину жизнь рассказывать грустно. Жила она прежде с матерью в фабричных казармах, в семейной спальне. У них была кровать, на которой они спали, и сундук, на котором они ели. Почти у всех жильцов были углы, загороженные занавесками; у них с матерью и такого угла не было.
Клавкина мать работала в красильном цехе. От неё всегда пахло щёлочью и чем-то кислым. Она была слаба здоровьем и всё жаловалась, что угорала на работе. Соседка по койке советовала ей:
«А ты стопочку выпей — захочешь поесть. Поешь и покрепчаешь».
Появилась стопочка, но мать здоровей не стала. После стопочки она лежала совсем пластом и с трудом поднималась, когда гудел гудок на смену.
Варить они не варили, всё всухомятку — хлеб, селёдка. Когда мать спала, Клавка надевала её башмаки и выходила во двор. Дальше двора Клавка не ходила.
Однажды утром мать не поднялась ни с первым, ни со вторым гудком. Приехала санитарная карета, и мать увезли в больницу. Кровать и сундук облили чем-то пахучим. В сундуке, когда его открыли, ничего не было.
У Клавки началась тяжёлая жизнь. Ела то, что дадут, сама не просила. Если мальчишки во дворе били, — давала сдачи: жаловаться ей было некому.
Что стало бы с Клавкой, — неизвестно, если бы с осени жизнь не переменилась. В октябре забрали фабрику рабочие, и хозяйский дом перешёл в их руки. В барский дом перевели из казармы семейных. В казармах остались только бездетные.
Взяла бы и Клавку какая-нибудь семья, да голод связал всех по рукам и ногам. Как взять ребёнка, когда нечем его кормить? И стали работницы хлопотать, чтобы Клавку устроить в детский дом.
Нехозяйственная была Клавкина мать. Собрали девчонку всей казармой: кто дал платьишко, кто чулки, кто рубашку — и отправили.
И всё-таки осталась у Клавки от матери память — ложка деревянная, на рыбу похожая, с ручкой, как рыбий хвост. Она с этой ложкой ходила чужие щи есть. Так и кричали:
