Женитьба Элли Оде (сборник рассказов), стр. 59
Газель заглянула в глубь колодца и проглотила сухой ком в горле. Из её красивых глаз выкатились слёзы. Касаясь раненой ногой земли, она в бессилии легла тут же.
Охотник, идя по горячему следу, добрался до колодца. Но и он изнывал от жажды. Опустив ведро в колодец, он набрал воды и жадно потянулся к ней губами. Сделав один-два глотка, поморщился. Вода была горькой.
Кто знает, может, эта горечь была от слёз умирающей газели?..
Непроницаемо-чёрной ночью в саду случилось прекрасное. Набежала большая грозовая туча, дождь промыл весь сад, и листья, уже пожухшие от долгой жары, вдруг распрямились и заблестели, как лакированные. Когда туча унеслась и взошла предрассветная звезда, в сад прилетел влюблённый соловей. Он сел на куст розы и запел. Розовые бутоны улыбнулись его песне. Огромные, как пиалы, они своей красотой сейчас соперничали с предрассветной зарёй. Лёгкий ветерок разнёс по всему миру их благоухание и прекрасную песнь соловья.
Так начался новый день на земле…
И в палящий зной, и в осеннюю слякоть, и ночью, и днём горная речка мчится так стремительно, будто ей выпал жребий — вечный бег. Она бурлит и пенится, выходит из берегов. Делая поворот за поворотом, она выходит на равнину и украшает свои берега садами и полями; она даёт не влагу, а жизнь, потому что в воде есть животворная сила материнского молока. Шум воды похож на колыбельную песню матери, посевы же, вспоённые водой, при порывах ветерка напоминают только что очнувшегося от сна ребёнка. Их шёпот будто слова благодарного дитяти: «Я оправдаю молоко матери». Он звучит обещанием обильного урожая.
В сад он пришёл утром рано. Вскопал землю у корней деревьев, взрыхлил её, срезал сухие сучья, подвязал ветки. Когда взошло солнце, он разогнул спину и с наслаждением вытер со лба крупные капли пота. Ушёл он поздно, и даже усталость показалась ему сладкой.
Назавтра он снова пришёл сюда. И снова внимательно оглядывал сад, будто видел его впервые. На лепестках распустившихся к утру бутонов он увидел мелкие бисеринки росы. Эта выпавшая за ночь роса отсвечивала каплями пота садовника…
Перевод Силиной (инициалов не было — прим. ANSI)
Ходжанепес Меляев
Когда умирают отцы
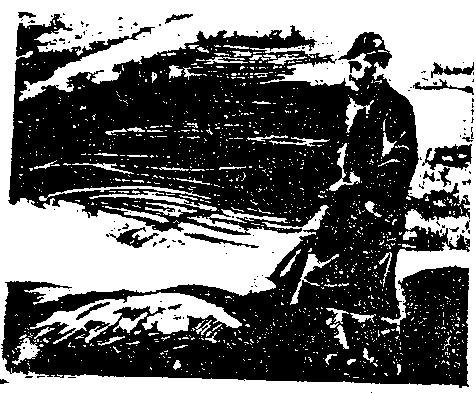
Какая буря поднялась сегодня в сердце Гуйчгельды Джумаевича! Казалось, самые глубокие тайники самого сокровенного затопила всё разъедающая горько-солёная влага.
Сейчас Гуйчгельды Джумаевич с опущенной головой стоял в толпе пришедших на кладбище людей. Его переживания не были связаны с человеком, которого предстояло предать земле. Нет, нет, тысячу рае нет. Он не только не был родственником покойного, но даже никогда не слышал его имени и не знал в лицо. Покойный доводился дядей уважаемому министру, и Гуйчгельды Джумаевич посчитал, что в этот печальный ему день нельзя быть в стороне, надо побывать на кладбище. Иначе разве он оказался бы здесь в такой морозный день. Ведь каждая выбоинка на дороге застыла, закаменела, и оставалось только сожалеть, что отправился сюда на собственной машине. Такая дорога стирает колёсную резину, словно луковицу. Каждый раз, когда «Волгу» подбрасывало, он ворчал про себя: «Надо же, выходной день… И шофёру не сказал, чтобы заглянул… Кто же мог подумать… Ведь как было бы хорошо на казённой машине… Шофёр тоже — пока скажешь, сам ни за что не додумается».
Земля, не поддаваясь, звенела под лопатами, копать предстояло ещё много. От холода многие люди начали разбредаться — останавливались подолгу возле могил, читали надписи надгробных камней.
Сделал несколько шагов и Гуйчгельды Джумаевич. И вдруг что-то резко и горячо сдавило его сердце. Перед ним стоял чёрный, в пояс человеку, камень.
Где-то должна быть могила и Джума-ага, бедного его отца… Тогда он цепко запомнил чёрный камень… где-то здесь, совсем рядом… Что ж, раз уж оказался тут, надо найти.
…Джума-ага скончался на восьмом десятке, хотя почти до самого последнего был крепким стариком. Лишь за двадцать дней до смерти перестал ходить в свою кузницу.
«В семидесятом или в семьдесят первом?..» — Гуйчгельды Джумаевич зашевелил губами, стараясь вспомнить скорбную дату. — «В семидесятом, да, в семидесятом…»
Все любят своих детей, но любовь Джума-ага к Гуйчгельды была ни с чем не сравнимой. Он сам нарёк его Гуйчгельды, что означает — сила пришла. Объяснив при этом: «Знания принесли силу, а к тому же отца моего так звали».
В трудные годы, когда они с женой перебивались жмыхом, для мальчика в специальном сундучке всегда находился хлеб: этого Гуйчгельды никогда не забывал. Однажды отец пошутил за чаем: «Сынок, дай-ка и мне кусочек хлебца». Мальчик замотал головой и спрятал руки за спину. Тогда мать — она и сейчас живёт у Гуйчгельды — сказала: «Эх, отец, разве не знаешь пословицы, что, мол, родители пускай будут, только рты им не нужны?.. И у него к тому же идёт. Ешь, сынок, сам ешь. Вырастай побыстрее. Примешь из отцовских рук работу, ношу его облегчишь. А там и у самого дети появятся. Тогда поймёшь».
Мать Дурдыгуль как в зеркало смотрела. Всё так и произошло. Недавно Гуйчгельды Джумаевич ездил в аэропорт провожать приятеля. Как раз в это время из Алма-Аты прилетел другой знакомый. Он нёс сетку, полную красных яблок, каждое из которых было размером с чайник. Знакомый дал два яблока Гуйчгельды Джумаевичу, и он, вернувшись домой, отдал их выбежавшему навстречу Сердару. Дурдыгуль-эдже видела это. «Когда ты был маленьким, сынок, я тебе говорила, мол, пусть у самого появятся дети. Вот, видишь, тебе и в горло не полезло. Так же и с отцом твоим, беднягой. Сам недоедал-недопивал, а тебе с каждого базара гостинцы привозил», — печально сказала Дурдыгуль-эдже и, постукивая палочкой, ушла в свою комнату.
Все дни между базарами Джума-ага работал в своей кузнице до первых петухов. А потом складывал в мешок лопаты, серпы, ножницы для стрижки овец, ножи, щипчики, для подправки бород, грузил мешок на ишака и ещё затемно отправлялся на толкучку. Там он раскладывал перед собой свой товар и, расстелив мешок, удобно на нём усаживался. Люди, знавшие Джума-ага, даже и не смотрели на лопаты других мастеров, а покупали сразу у него. Незнакомые иногда замечали: «Уж больно дороги ваши лопаты, яшули. Там вон за десять рублей отдают». На это Джума-ага непременно отвечал: «У каждой вещи, братишка, есть своя цена. Эти лопаты имеют вот эту цену. Лопата лопате — рознь, — он брал в руки одну из них и внимательно оглядывал. — Возьми её и долби мёрзлую землю. Если зазубрится, в следующий базар я буду на этом же месте, вернёшь. У того, кто будет работать этой лопатой, ни руки не устанут, ни поясница».
Получалось так, что пока Джума-ага не распродаст свой товар, остальным кузнецам оставалось только дремать.
Глядя на черноусого парня, выбрасывающего из могилы по горстке земли, Гуйчгельды Джумаевич невольно подумал: «Сейчас бы сюда отцовские лопаты».
У него замёрзли уши, и он поглубже нахлобучил ондатровую шапку. Затем расправил на груди шерстяной шарф, достал из кармана подбитого шерстью пальто перчатки и надел их.
На большинстве могил есть надписи. Мраморные плиты с выбитыми буквами. Каменные изваяния. Металлические оградки. Ничего этого Гуйчгельды Джумаевич не сделал на могиле отца. «Эх, уж это бездушие, — посетовал Гуйчгельды Джумаевич. — А ведь собирался же какой ни на есть памятничек поставить… Да, но мать-то нашла, когда в пятницу ходила. Пришла домой со слезами. Дескать, могилка бедняги отца осела. Вообще-то должно быть где-то здесь…»
В политехнический институт Гуйчгельды поступил в год окончания школы. Своими ли силами поступил, отец ли помог — неизвестно. Только накануне вступительных экзаменов отец пару вечеров куда-то молчаливо отлучался. А в год, когда сын заканчивал институт, отец пошёл в министерство: «Мы с женой два старика, не отправляйте никуда моего парнишку». То ли слова старика возымели действие, то ли действительно специалисты требовались в Ашхабаде — словом, его оставили здесь работать.
