Женитьба Элли Оде (сборник рассказов), стр. 57
Первым пришёл в себя старый Неник. Закусив губу, пробормотал: «Э, проклятый враг!..» — и покачал головой. Постепенно округлое лицо его стало клониться всё ниже. «Да… как говорится, сперва к своему телу приложи. Если не жжётся — тогда и к чужому. А чего я ещё мог ждать от невестки? — рассуждал он про себя. — Муж погиб, жена свободна…» Тут он сообразил: во всём этом, видно, и Нокер замешан.
— Айнагозель, дитя моё, — медленно проговорил старик, — мы вынуждены с этим смириться.
— Доченька, Айнагозель-джан, — всхлипнула Гюллер-эдже, ей почудилось, что та уходит к своей матери, — конечно, тебе нелегко…
А она молчала — стыдилась прямо сказать, что уходит к Нокеру. Но, как бы то ни было, разговор следует завершить.
— Мама, — Айнагозель подняла голову, несмело глянула на свекровь, — вы не беспокойтесь, я сама управлюсь.
«Значит, верно, — сразу отметил про себя Неник-ага. — Без Нокера тут не обошлось. Что ж… Всё по-честному».
— Невестушка, — проговорил он вслух, — нашего несогласия или обиды здесь нет. Воля твоя. Как говорится, огнём вошло, пеплом наружу вышло…
Айнагозель наконец встала. С глубокой тоской, с благодарностью взглянула на свёкра и свекровь. Несмело подалась к двери. Нокер вышел первым, огляделся, вздохнул с облегчением.
— Вы оба для меня, — проговорила в эту минуту Айнагозель, — дороже, чем родные отец и мать!
И пошла к двери, ступила на порог. Гюллер-эдже всё ещё не могла взять в толк, что же тут в действительности происходит.
— Айнагозель, невестушка, — в последний момент поняв, что она покидает их насовсем, окликнул Неник-ага, — разве ты ничего не возьмёшь своего, своей доли имущества?
Она обернулась, качнула головой. Нет. Ещё задержалась на пороге:
— Отец… я вас никогда не забуду!
Оба старика остались недвижными в своём доме, в комнате, которую они ещё перед войной отделали для сына с невесткой. А она уже шла через двор следом на Нокером.
Гюллер-эдже наконец всё поняла. Теченья жизни не остановишь, тут ничего не поделаешь… Но как смирить сердце?
— Проклятый враг! — вслух проговорила старушка, — у неё от волнения дёргались губы. — Своими бы руками тебя за горло!..
Неник-ага до этой минуты крепился, но тут и его покинули силы. Слово сказать — язык не слушается…
— Ну… — с укором проговорил он жене, всё же беря себя в руки, — чтоб с этого дня не видел я твоих слёз!
— Да я и не плачу, — Гюллер-эдже то ли устыдилась мужа, то ли поняла: сейчас необходимо быть стойкой во что бы то ни стало. — Не плачу!..
Ей удалось превозмочь себя — из уважения к мужу. Покрасневшие глаза сделались сухими. Но сердце… оно плакало горько, безутешно.
Перевод А.Зырина
Юрий Белов
На переломе
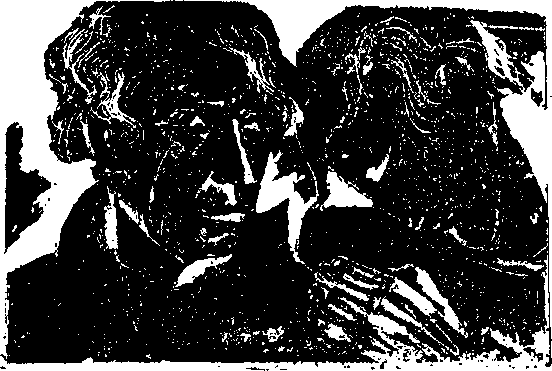
Зима в тот год была студёная, вьюжная. Углы старой ветряной мельницы покрылись изморозью и странно посвечивали вечерами, когда друзья зажигали огонь в камельке. Эти таинственно светящиеся углы почему-то беспокоили Ботева, он то и дело оглядывался, словно на живых существ, от которых можно ждать всякого.
И сейчас, прежде чем лечь, он глянул в промёрзший угол — отблеск жёлтого пламени, колеблемого сквозняками, тревожно трепетал там, жил своей нереальной жизнью.
«Нет, больше так продолжаться не может, — подумал Христо и уткнулся лицом в холодное, пахнущее плесенью тряпьё. — Всему приходит конец».
Это слово неотступно преследовало его весь день.
Измученный, он забылся ненадолго, а когда очнулся, в висках по-прежнему стучало: конец, конец, конец…
Он понимал, что ослаб, что охватившее его отчаяние вызвано голодом и усталостью, что нельзя поддаваться, иначе… И не мог отделаться от этого проклятого слова.
Чтобы отвлечься, Христо стал вспоминать, как учительствовал в Задунаевке и подражал Рахметову. Но ведь тогда у него была кавказская бурка; завернувшись в неё, не так уж плохо чувствовал он себя на голых досках. И хлеб был каждый день, и сыр. И на книги не жалел денег. А теперь…
Христо даже застонал, вспомнив, что произошло сегодня. Он тяжело перевернулся на спину и увидел над собой в полумраке гнилые стропила, засиженные птицами. И вдруг словно наяву — представил того несчастного парня в петле и вздрогнул. «Всё пропало, нам не увидеть милую Болгарию свободной», — написал тот несчастный в предсмертной записке.
Отгоняя страшное видение, Христо тряхнул головой и сел. Нет, только не это. Смерть за родину — счастье, а вот так, на собственном поясе… Но ведь родина далеко, а он бессилен помочь ей.
Христо снова лёг. Мысли текли бестолково, путались. Он то видел какой-то сон, тревожный и зыбкий, то мрачные стропила над головой. Прислушивался к завыванию ветра и к тому, что делалось под полом. Тишина внизу тоже беспокоила его. Куда подевались мыши? То скреблись, возились, попискивали — и вдруг не стало их слышно.
— Ого, ты уже возлежишь на своих перинах! — услышал он и встрепенулся: Левский!
— Ты пришёл, Васил, — Христо улыбался другу. — Хорошо, что пришёл, а то я всё один.
Васил Левский стряхивал снег со своей ветхой одежды.
— Так ещё корчмы не закрыты, — весело сказал он, — там хоть задаром и не кормят, а посидеть с друзьями кто же запретит!
Он подкинул несколько кусков угля в камелёк, присел на корточки и стал греть руки над огнём. Отблески пламени метались по его лицу, и оно менялось беспрестанно.
— Я всё ждал, ждал тебя, — продолжал Левский, — а потом думаю: не пошёл ли ты сюда? И угадал. Что, нездоровится?
— Ах, Васил, всё-то ты замечаешь! Но только у меня совсем не тот недуг. И даже тебе не откроюсь до конца… Опять это проклятое слово! Вот привязалось. Васил, ты на одиннадцать лет старше, а не сдаёшься, весел как всегда, хоть тоже наверняка не обедал сегодня…
— Чего ж ты молчишь, друже? — Левский выпрямился, свет падал теперь на него снизу, а огромная тень взметнулась и растворилась во мраке за стропилами. — Худо тебе?
Голос его полон тревоги. Нет, не утаить от него свою слабость.
— Худо, Васил. Не могу больше терпеть эту бессмысленную жизнь. Я теряю веру, Васил.
Левский шагнул к нему, стал вглядываться в лицо друга. Оно всегда было красивым, мужественным. Васил любит следить за каждым его движением, когда Христо говорит. Но теперь что-то произошло в нём. Чёрная курчавая бородка юноши придавала лицу совсем иное, чем прежде, выражение, — старила, скрывала волевые черты. И глаза уже не сверкали былым огнём.
— Ну говори, — Левский присел возле друга. — Во что ты теряешь веру? В наше дело?
— В людей.
Васил молча ждал продолжения, и Христо не выдержал паузы.
— Я ходил к Христо Георгиеву, — сказал он.
— Из Добродетельной дружины? — заинтересованно спросил Левский, даже придвинулся к нему.
— Да, он ходит там в руководителях. Богатый человек и мой родственник. Я сказал ему, что бедствую, что из-за плохой одежды мне стыдно днём выходить на улицу, что я заложил свои книги, что я голодаю, наконец. Просил помочь… — у Христо запершило в горле, и он судорожно глотнул. — Знаешь, что ответил мне мой богатый тёзка? Что не имеет возможности…
Левский вскочил и пошёл к двери. У Христо зашлось сердце: он на миг подумал, что друг, презирая его, уходит навсегда. Но Левский уже шёл обратно и лицо его лучилось улыбкой.
— А ведь он правду сказал, этот твой родственник. Он действительно не имеет возможности помочь тебе. По сравнению с тобой он жалкий нищий. У него нет ничего — ни родины, ни чести, ни совести — и нет надежды когда-нибудь обрести их. Ему-то самому даже жабы не помогут.
Ботев смотрел на друга с недоумением.
— Какие жабы? О чём ты говоришь?
Левский расхохотался. Он стоял, скрестив ка груди руки, и было в его крепкой плечистой фигуре столько уверенности и силы, что Ботев залюбовался им.
— А вот послушай. Заболел я. Тяжело заболел. Друзья, разумеется, обеспокоились, стали лечить. А как — не знают. Нашли знахаря, посоветовались. Надо, говорит знахарь, к животу жаб прикладывать — как рукой, говорит, болезнь снимет. А дело было зимой, как сейчас. Кинулись друзья к Дунаю, стали в замёрзшем болоте на берегу жаб выкапывать да к животу моему прикладывать.
