Женитьба Элли Оде (сборник рассказов), стр. 49
Огулсанды уже размахнулась, чтобы подальше закинуть дутар, но что-то заставило её обернуться: прямо по бахче, цепляясь за плети дынь длинными босыми ногами, во весь дух мчался Хештек. И она поняла: если швырнуть дутар в воду, за ним, ни минуты не раздумывая, бросится с обрыва Хештек…
Огулсанды лежала, укрывшись с головой, слушала жалобное дребезжанье струн и вспоминала, как под зелёным халатом сидела она за свадебным пологом и в дырочку поглядывала на жениха, одну за другой игравшего гостям лучшие свои мелодии. Он так и не пришёл к ней в ту ночь…
Огулсанды открыла глаза, приподнялась, Хештек играл. Играл упоённо, страстно, совсем, как в свадебную ночь, только музыка теперь была не та. И вдруг он запел. Хештек ударял по струнам и монотонно, на одной ноте, повторял начальные слова песни:
Это было уже слишком. Этого она не могла вынести.
— Хватит! — закричала Огулсанды. — Хватит, Хештек! Оставь ради бога свою музыку!
С дутаром в руках Хештек подсел к ней, заглянул в глаза.
— Тебе не нравится? — удивлённо спросил он. — Не нравится, как звучит дутар Тёке-бахши?
— Не очень, Хештек… Какой-то он стал не такой…
— Не такой?.. Хештек озадаченно поглядел на жену. — Почему же? Я ведь играю, как прежде, и руки вроде бы прежние… Значит, Гамбар-Баба виноват, забыл нас святой покровитель песен!
— Нет, Хештек! Нет! — Огулсанды с криком бросилась к мужу. — Не вини его! Ни в чём он не виноват. Его убили! Убили покровителя песен!
Дутар выскользнул из рук бахши. Струны звякнули, и короткий звук их замер…
Перевод Т.Калякиной
Вячеслав Курдицкий
И была ночь, и было утро
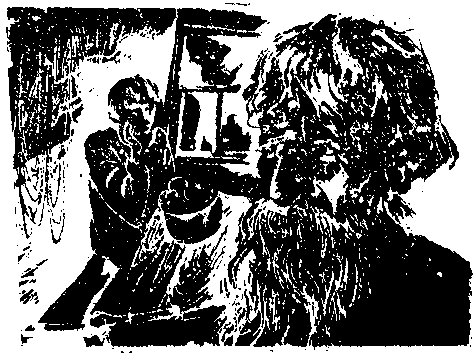
В заледенелое окно пробивалось солнце. По-утреннему стелющиеся лучи его кололи глаза, дробясь в кристаллах морозного узора. Савка щурился, глядя на окно, зевал спросонья, поджимал под табуретку ноги. В избе было зябко, а фрицевские вязаные носки — они только по видимости носки, тепла от них никакого.
Дед ещё не слез с печи. Он шебуршился так, как таракан в старых газетах, вздыхал, перхал, бормотал что-то невнятное.
— Слазь, — сказал Савка, — глаза вконец попортишь с библией своей. Очков нынче не купишь.
— Не библия это, а откровение от святых апостолов, — отозвался с печи дед. — Тут точно сказано: и придут римляне и овладеют и местом нашим и народом нашим.
— Овладели! — фыркнул Савка. — Дулю с маком! Слазь, православный, завтракать надо.
— «Надо»… Жрать-то чего будешь?
— Не знаю. Достань сало из загашника.
— Ты его клал в загашник? Руки у тя, родимца, дошли, когда говорено было: Савка, неси гвозди, Савка, давай соль, Савка…
— Дед, а дед, — сказал Савка без желания спорить, — ну че ты бухтишь? Ну, не принёс. Обеднел ты, что ли? Все одно не стал бы торчать на базаре с гвоздями, я ж тебя знаю как облупленного.
— Много ты знаешь! — огрызнулся дед и зашуршал с печи. — Ишь ты, знахарь, матрёнин вор! Корогодишься всё. С Шуркой своим колченогим. Другие, которые от супостата, землю боронят, а Шурка этот только на бандуре своей горазд девок совращать. Трень-брень, трень-брень… Нашли время для посиделок, прости господи…
— Какие там посиделки, — отмахнулся Савка, — буровишь сам чего не знаешь. Мы свои, советские песни поём: нас не трогай — мы не тронем.
Дед перхнул смешком.
— Вот уж истинно: вам по одной скуле — вы другую подставляете.
— По библии твоей живём, — сказал Савка, — по писанию.
— Понимал бы ты в писании! Иди-ка лучше за водой сходи.
— Ладно, — согласился Савка, — схожу.
Он сунул ноги в валенки, вышел в сени, погремел вёдрами, прилаживаясь. Идти на мороз не хотелось, но и дома сидеть — мало радости.
Дымы из труб тянули прямо вверх. Очень синим и чистым было небо — ни тучки, ни облачка. Смотреть противно. Тишь да благодать, будто ни войны кругом, ни фрицев, ни Федьки Козла, будь он трижды проклят. Живи, мол, себе и живи, на граммофоне играй, с девчатами перешучивайся, за водой ходи. А куда за ней идти? Сруб вон у колодца так обледенел — того и гляди нырнёшь башкой за ведром.
Возле колодца Савка остановился, размотал верёвку, защёлкнул карабин на дужке ведра, посмотрел во круг. Дымы всё так же тянулись в небо драными собачьими хвостами. На сквозной улице посёлка — шаром покати, только Фроська шла к колодцу да Ганс кульгал за ней, поёживаясь и потирая уши под своими зелёными наушными нашлёпками. И чего он вяжется к девке, вахлак белобрысый? Хотя фриц он в общем-то ничего, смурной какой-то, тихий, вроде как малограмотный. Иной раз такое сказанёт на своём гусином языке — только оглядывайся: то ли сдуру, как с дубу, то ли сам дураков ищет. А нас на провокацию не возьмёшь, не лаптем щи хлебаем!
— Фроська! — закричал Савка. — Когда блины печь будешь? Маслена на носу. Пригласишь?
— Приглашу, — серьёзно, без улыбки сказала Фроська. — Ты мне только дрожжей добудь. А блины я сделаю — пальчики оближешь.
— Ха, — усмехнулся Савка, — дрожжи… А самогон дед с чего затворит?
Он булькнул ведром в жерле колодца, налил Фроськины вёдра, потом — свои.
— Ганс понесёт?
— Сама ещё не обезножела. — Она оглянулась на немца. — Ты проводи меня, Слав, ладно?
— Ещё чего! — буркнул Савка. — Свои вёдра куда дену? Дед воду ждёт. А бабы че скажут?
— Мой грех. Не привыкать, отмолю.
— Ну гляди. Это дедуля мой молельщик — всё читает апостолов да по ночам заступницу-троеручицу тревожит.
— Не кощунствуй! — серьёзно сказала Фроська.
— Да я без задней мысли, — поскучнел Савка. — Пошли, что ли?
Фроська снова тронула косым взглядом немца. Тот мялся поодаль, бил каблук о каблук, помаргивал нервически. Подхватила вёдра на коромысло, пошла, плавно покачивая широкими бёдрами под короткой кацавейкой. Савка двинулся следом. Звонко хрустел под ногами снег. Вкусно хрустел. У Савки засосало в желудке.
— Фрось, — окликнул он, оскользаясь на хрустком насте, — я это… в смысле лопать… дед ждёт…
— Иди, иди, — не оглядываясь, ответила Фроська, — накормлю. Никакого у тебя соображения кет.
— Зачем, — буркнул Савка, — есть соображение.
Мы больше брюхом соображаем… С чего к тебе этот хмырик вяжется?
Фроська дёрнула плечом, плеснув водой, приостановилась, чтобы вёдра перестали раскачиваться.
— Тоже живой человек. Ходит и ходит. Картошкой варёной его кормлю. Жрёт себе и сидит потихоньку. Тебе же сподручней.
— Бабы худое болтают.
— Много они знают, бабы твои, — сказала Фроська с дедовской интонацией. — Язык что помело.
Савка промолчал: Фроська верно говорила. Ни шиша они не знают — ни бабы, ни дед. Тоже, Шуркой шпыняет. А Шурка ли виноват, что мамаша его модничала, корсетами баловалась и ногу ему ещё до рождения попортила? Интеллигенция вшивая! Шурка так ярился на призывном пункте, что военком чуть не арестовал его. Сколько его Савка знал, первый раз видел, чтобы Шурка плакал и так матерился. Савку-то понятно отшили — годами не вышел для армии. Но и ему обидно было. А Щурке каково? Нет, дедушка Прохор Лукич, не по нас твой укор, не подставляем мы скулы под чужой кулак, накось выкуси! А что песни под гитару Шуркину поём, так это ничего, это даже хорошо, что песни, не голосить же по-бабьему как над покойником. И поём, и пьём иной раз — что из того? «То не ветер, по полю гуляя, по дорогам пыль метёт — это наша удалая, удалая конница идёт». Идёт, а не бежит, ты это понимаешь, дедушка Прохор Лукич?!
Фроська аккуратненько топала впереди своими расхлябанными валенками. Подшить бы ей, подумал Савка, кожей подшить, чтоб и весной, в распутицу можно было топать. Скрасть, что ли, у деда подмётки? Тоню повидать бы надо, без всякой связи с предыдущей мыслью подумал он. Но это только показалось, что — без связи. Впереди аккуратненько топала маленькими разбитыми валенками Фроська, сзади неровно скрипел шикарными гвоздями своих сапог-раструбов Ганс — и всё это было взаимосвязано, стянуто в маленький крепкий узелок, в маленькое сосредоточие взрыва. И Шурка умещался здесь, и Леха Скрипкин, и Яська Бас, а также изредка наведывающийся темнолицый и кудлатый Яшка Цыган. Звали его в общем-то не Яшкой, у него было восточное имя Яхья, да и по званию в лейтенантах он ходил. Но для них был своим парнем. Яшка и Яшка — и всё тут. Кому какое дело до остального. Приходит человек на базар, торгует пшеном, стаканчиками его отмеряет, а откуда приходит, куда уходит — о том не всякому надо знать. Федька Козёл, например, прознаёт — ещё неизвестно, что из этого получится. Хотя Федька больше на самогонку да на баб мастак, не поймёшь, что у него под кубанкой — может, с чёрной тоски душевной колобродит, а может, и себе на уме. Сволочь, в общем, полицай задрипанный, у бабки Авдотьи последнего курёнка забрал и не поморщился…
