Журнал «Если», 2005 № 06, стр. 1
«Если», 2005 № 06
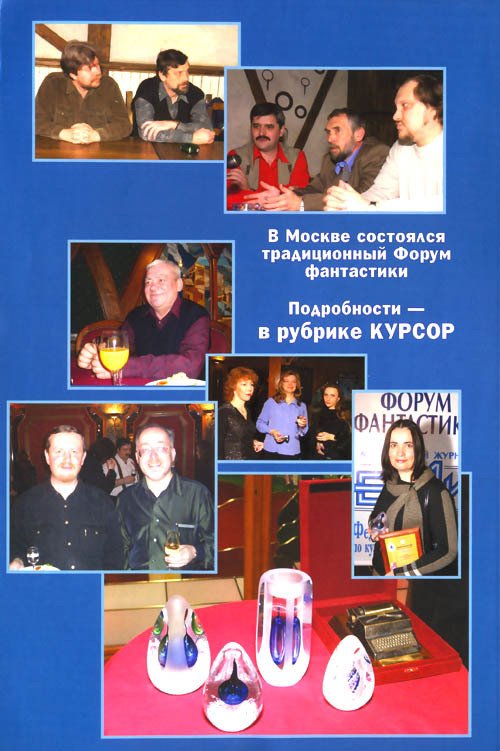
ПРОЗА
Дмитрий Колодан
Покупатель камней

Весна на пороге зимы — особое время года. Апрель, беспощадный месяц, грохотал штормами, бился в гранит границы земли. Каждую ночь море нещадно набрасывалось на берег, оставляя вдоль тусклой полоски пляжа намеки на дни творения — медузу, рыбий хребет или панцири крабов, возвращало дары — обглоданные до блеска кости деревьев, кусок весла, обломок пружины.
По утрам побережье окутывал туман. Его тугие щупальца, подхваченные бризом, скользили по краю воды, карабкались по камням к маяку и дальше, к скалам. Во влажном воздухе бухта расплывалась, как плохой фотоснимок. На пляже среди островков жесткой травы жались друг к другу старые лодки, облепленные ракушками и плетями водорослей, похожие на гигантских трилобитов, явившихся из сумрачных глубин девонского моря. Порой в непрестанном мареве казалось, что они перебираются с места на место, и я не мог с полной уверенностью сказать, что это шутки тумана и воображения…
Дом у моря я снял еще летом. Меня интересовала колония морских игуан — удивительных ящериц, которых Мелвилл не без основания назвал «странной аномалией диковинной природы». «Популярная наука» заказала мне серию акварелей этих рептилий. Конечно, с легкостью можно было бы взять в качестве натуры фотографии и чучела из Музея естественной истории, но я абсолютно убежден — настоящий анималист не имеет права на подобные полумеры. Чтобы нарисовать животное, надо понять его характер, заглянуть в душу, а много ли видно в стеклянных глазах?
Игуаны по достоинству оценили мое рвение, и работать с ними оказалось настоящим удовольствием. Я еще не встречал более старательных натурщиц: они готовы были часами неподвижно лежать на окатываемых волнами камнях, игнорируя нахальных крабов, ползающих прямо по их спинам. К осени набралась внушительная подборка эскизов, однако меня не покидало ощущение незаконченности работы, и я продолжал лазать по скалам в поисках сюжета, который бы наилучшим образом завершил цикл. В итоге, поскользнувшись, я рассадил руку и надолго лишился возможности рисовать.
Этот досадный инцидент имел и другие, более неприятные последствия. Пустяковая, на первый взгляд, рана загноилась, рука распухла, и почти неделю я провел в постели в горячечном бреду. Ночами, когда ветер неустанно бился в стекла, я метался на влажных простынях, тщетно пытаясь уснуть. Рокот прибоя навевал странные видения панцирных рыб и гигантских аммонитов — доисторических чудовищ, затаившихся в толще вод, и, как оказалось, я был не далек от истины. Видимо, уже тогда доктор Северин начал опыты с камнями.
В «Популярной науке» Северина знал едва ли не каждый, в первую очередь, из-за скандала с механическим кальмаром. Основываясь на последних достижениях механики и вивисекции, доктор сделал невозможное — создал живое существо, почти вплотную подойдя к разгадке творения. Не спорю, он был талантливым ученым, даже гением, но его методы вызывали у меня глубокое отвращение. Собаки и обезьянки, выпотрошенные ради пары желёзок — это только полбеды. Я слышал от специалистов, что в создании кальмара использовались и человеческие органы. Кажется, именно тогда вивисекция была объявлена вне закона. По слухам, Северин бежал в Южную Африку, где в секретной лаборатории продолжил заниматься запрещенными экспериментами. Признаться, я очень удивился, встретив его в поселке.
Как выяснилось, Северин появился в этих краях пару лет назад, выдавая себя за отошедшего от дел ветеринара. Кое-кто из местных жителей даже обращался к нему за помощью, но это быстро прекратилось, после того как он без анестезии отрезал лапу коту на глазах у ошеломленной хозяйки. Я нисколько не сомневаюсь, что за закрытыми дверьми Северин занимался и другими мерзостями, которые он именовал наукой. Густав Гаспар, смотритель маяка, как-то нашел на пляже мертвую игуану со следами хирургического вмешательства — всем было понятно, кто стоял за этим.
Северин действительно проявлял интерес к ящерицам. Несколько раз поздними вечерами я видел его рядом с колонией. В это время игуаны ленивы, поймать их не составляет труда. Длинной удочкой с нейлоновой петлей доктор стаскивал их с камней, каждый раз унося с собой одну или двух. Страшно подумать, какую участь уготовил им безумный ученый.
Когда боль в руке приутихла, я стал гулять по пляжу, наблюдая за игуанами, собирая раковины и интересные камни и, откровенно говоря, изнывая от безделья, ведь возвращаться к работе было еще рано. В один из таких дней, кажется, в четверг, и началась история с рыбами.
В то утро прямо под моими окнами пронзительно залаяла собака. Я где-то читал, что собачий лай входит в пятерку самых раздражающих звуков, опережая даже скрип мела по грифельной доске. Я выглянул в окно.
Открывшаяся картина носила отпечаток нездорового гротеска. Окно моей спальни на втором этаже выходило во двор, за ним начинался огород госпожи Феликс. Разделял их невысокий кирпичный забор, увитый сухим плющом — эта граница и послужила сценой. Актеров было всего двое: смотритель маяка Густав Гаспар и Лобо, старый пудель госпожи Феликс, — но их вполне хватило, чтобы разыграть самый нелепый фарс из тех, что мне доводилось видеть.
Собака срывалась на визг. Признаюсь, при всей моей любви к животным я не испытывал симпатии к Лобо: грязное, неопрятное и чертовски склочное создание, упивающееся собственной безнаказанностью. У бедняги был паралич задних лап, и передвигался он, надо признать, с поразительной ловкостью, на плетеной тележке с колесами от детского велосипеда. Сейчас он с торжествующим видом возвышался над своей добычей — ботинком Густава.
Самого хозяина обуви я заметил не сразу. Сначала я увидел ноги, торчащие над забором подобно беспокойной букве «V». На ветру трепыхался полосатый носок. Присмотревшись, я сообразил, что Густав свесился с забора вниз головой в лучших традициях Белого Рыцаря. Одной рукой он опирался о землю, в другой сжимал корявый сук, которым пытался подцепить ботинок. Пестрая гавайская рубашка сползла до подмышек. Лобо, прекрасно сознавая свое превосходство, держался вне досягаемости палки и явно издевался. Стараясь перехватить обувь и рискуя свернуть себе шею, несчастный смотритель извивался словно угорь, благо сам был длинным и тощим.
Развязка наступила внезапно. Густав вытянулся и исхитрился воткнуть сук между спицами. Собаки, насколько я помню, лишены мимических мышц, однако на морде Лобо появилось выражение крайнего недоумения. Густав неторопливо слез с забора и поднял ботинок.
Именно тогда выяснилось, что я был не единственным свидетелем этой сцены. В доме госпожи Феликс распахнулось окно, и в темном проеме возникло перекошенное от злобы лицо хозяйки. Я чужд предрассудков, но верю в существование ведьм. И госпожа Феликс — одна из них.
На смотрителя обрушился такой поток брани, что тот поспешил ретироваться. Он перемахнул через забор, поднял с земли какой-то предмет и заковылял к моему дому. Госпожа Феликс не унималась: если бы ей хватило сил, в смотрителя полетели бы тарелки и цветочные горшки или — не удивлюсь — жабы и змеи.
Густав ввалился в дом, держа в одной руке ботинок, а в другой — мятую жестянку из-под краски. По раскрасневшемуся лицу струился пот. Смотритель плечом стряхнул запутавшуюся в бороде травинку.
— Вот, думал, напрямик быстрее будет, да…
Он был сильно взволнован, и, как выяснилось, причиной тому послужили не только Лобо с госпожой Феликс. Гораздо важнее оказалась его утренняя находка. По словам Густава, ничего подобного он не встречал, хотя за свою жизнь насмотрелся всяких диковинок. Он протянул мне жестянку, наполовину заполненную водой. Эта предосторожность была излишней — три рыбки, что плавали на поверхности, судя по всему, давно сдохли. От удивления я даже присвистнул. В отличие от смотрителя, эти создания были мне знакомы — рыбы из рода Argyropelecus, иначе известные как топорики, — маленькие монстры, достойные кошмаров Лавкрафта. Трудно представить рыбу с более мрачной внешностью: тело, сжатое с боков так, что выпирает скелет, выпученные глаза, задумчиво устремленные вверх, и вечно угрюмое выражение огромного рта. Я прекрасно понимаю смятение Густава — на топорика невозможно смотреть без содрогания.
