Золотой жук. Странные Шаги, стр. 82
Отец Браун нетерпеливо щелкнул пальцами.
— Вот оно! — воскликнул он. — Вот где наши пути расходятся. Наука — великая вещь, если это наука. Настоящая наука — одна из величайших вещей в мире. Но какой смысл придают теперь этому слову в девяти случаях из десяти, когда говорят, что сыск — наука, когда говорят, что криминология — наука? Люди хотят сказать, что человека надо изучать снаружи, как исполинское насекомое. Они говорят, что это научно, беспристрастно, а это просто бесчеловечно. Они осматривают человека издали, как доисторическое чудище; они разглядывают «преступный череп», как нарост на морде носорога. Когда такой ученый говорит о «типе», он имеет в виду не себя, а своего соседа — обычно беднейшего. Я не отрицаю, что «беспристрастное изучение» иногда приносит пользу, хотя в некотором смысле оно прямо противоположно знанию. Ведь чтобы «изучать беспристрастно», надо отказаться от того немногого, что мы знаем. В хорошо знакомом человеке нужно видеть незнакомца и считать таинственными хорошо знакомые вещи. Так, можно сказать, что у людей — короткий выступ посреди лица или что люди впадают в беспамятство каждые сутки. То, что вы называете моей тайной, — совсем, совсем другое.
Я не пытаюсь изучать человека снаружи. Я пытаюсь проникнуть внутрь. Это гораздо больше, правда? Я — внутри человека. Я — всегда внутри человека, я двигаю его руками и ногами. Я жду до тех пор, покуда я не окажусь внутри убийцы, покуда я не начну думать его думы, терзаться его страстями, покуда не проникнусь его горячечной ненавистью, покуда не взгляну на мир его налитыми кровью, злыми глазами и не стану искать, как он, самый короткий и прямой путь к луже крови. Я жду, пока не стану убийцей.
— О! — произнес м-р Чейс, мрачно глядя на него. — И это вы называете духовным упражнением?
— Да, — ответил Браун. — Называю. Он помолчал, потом заговорил снова:
— Это такое упражнение, что лучше бы мне о нем не рассказывать. Но, понимаете, не могу же я вас так отпустить. Вы еще скажете там, у себя, что я умею колдовать или занимаюсь телепатией. Я плохо объяснил, но все это сущая правда. Человек никогда не будет хорошим, пока не поймет, какой он плохой или каким плохим он мог бы стать; пока он не поймет, как мало права он имеет ухмыляться и надменно болтать о «преступниках», словно они лесные обезьяны и живут на деревьях за десять тысяч миль; пока он не откажется от гнусного самообмана, от глупой болтовни о «низшем типе» и «порочном черепе»; пока он не выжмет из своей души последней капли фарисейского елея; пока не перестанет думать, что его цель — загнать преступника и накрыть его своей шляпой.
Фламбо подошел ближе, наполнил большой бокал испанским вином и поставил его перед своим другом; точно такой же бокал стоял перед американцем. Потом Фламбо заговорил — впервые за весь вечер:
— Отец Браун, кажется, привез с собой целый чемодан новых тайн. Мы вчера как раз говорили о них. За то время, что мы с ним не встречались, ему пришлось столкнуться с разным любопытным людом.
— Да, я слышал об этих историях! — сказал Чейс, задумчиво поднимая бокал. — Но у меня нет к ним ключа. Может быть, вы мне кое-что разъясните? Может быть, вы расскажете, как вы проникали в душу преступника?
Отец Браун тоже поднял бокал, и мерцание огня сделало вино прозрачным, как кроваво-алый витраж, изображающий мученика. Алое пламя приковало его взор: он не мог оторвать от него глаз, словно в чаше плескалась, как море, кровь всего человечества, а его душа была пловцом, ныряющим во тьме смирения, к горячечным, чудовищным помыслам, глубже самых уродливых чудищ и древнего ила на дне. В этой чаше, как в алом зеркале, он увидел много событий. Преступления последних лет промелькнули перед ним пурпурными тенями; происшествия, о которых его друзья просили рассказать, заплясали символическими арабесками; перед ним пронеслось все, что рассказано в этой книге.
Вот алое на просвет вино обернулось алым закатом над красно-бурыми песками, над бурыми фигурками людей; один человек лежал, другой спешил к нему. Вот закат раскололся, и алые фонарики повисли на деревьях сада, алые блики заплясали в пруду. Вот свет фонариков слился снова в огромный прозрачный алый камень, освещающий все вокруг, словно алое солнце, кроме высокого человека в высокой древней митре. Вот блеск угас, и только пламя рыжей бороды плескалось на ветру, над серой бесприютностью болота. Все это можно было увидеть и понять иначе; но сейчас, отвечая на вызов, он вспомнил это так — и разорванные образы стали складываться в связные сюжеты.
— Да, — сказал он, медленно поднося бокал к губам, — я как сейчас помню…
Тайна Фламбо
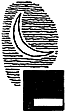
Красные тени преступлений вереницей пронеслись перед ним.
— Правда, — продолжал он, помолчав, — другие люди совершали преступление раньше и освобождали меня от физического участия. Я был, так сказать, на положении дублера. В любой момент я был готов сыграть роль преступника. По крайней мере, я вменил себе в обязанность знать эту роль назубок. Сейчас я вам поясню: когда я пытался представить себе то душевное состояние, в котором крадут или убивают, я всегда чувствовал, что я сам способен украсть или убить только в определенных психологических условиях — именно таких, а не иных, и притом не всегда наиболее очевидных. Тогда мне, конечно, становилось ясно, кто преступник, и это не всегда был тот, на кого падало подозрение.
Например, легко было решить, что мятежный поэт убил старого судью, который терпеть не мог мятежников [129]. Но мятежный поэт не станет убивать за это; вы поймете почему, если влезете в его шкуру. Вот я и влез, сознательно стал пессимистом, поборником анархии, одним из тех, для кого мятеж — не торжество справедливости, а разрушение. Я постарался избавиться от крох трезвого здравомыслия, которые мне посчастливилось унаследовать или собрать. Я закрыл и завесил все окошки, через которые светит сверху добрый дневной свет. Я представил себе ум, куда проникает только багровый свет снизу, раскалывающий скалы и разверзающий пропасти в небе. Но самые дикие, жуткие видения не помогли мне понять, зачем тому, кто так видит, губить себя, вступать в конфликт с презренной полицией, убивая одного из тех, кого сам он считает старыми дураками. Он не станет это делать, хотя и призывает к насилию в своих стихах. Он потому и не станет, что пишет стихи и песни. Тому, кто может выразить себя в песне, незачем выражать себя в убийстве. Стихи для него — истинные события, они нужны ему еще и еще. Потом я подумал о другом пессимисте: о том, кто охраняет этот мир, потому что полностью от него зависит. Я подумал, что если бы не благодать, я сам бы стал, быть может, человеком, для которого реален только блеск электрических ламп; мирским, светским человеком, который живет только для этого мира и не верит в другой; тем, кто может вырвать из тьмы кромешной только успех и удовольствия. Вот кто пойдет на все, если встанет под угрозу его единственный мир! Не мятежник, а мещанин способен на любое преступление, чтобы спасти свою мещанскую честь. Представьте себе, что значит разоблачение для преуспевающего судьи. Ведь вышло бы наружу то, чего его мир, его круг действительно не терпит — государственная измена. Если б я оказался на его месте и у меня была бы под рукой только его философия, один бог знает, чего бы я натворил.
— Многие скажут, что ваше упражнение мрачновато, — сказал Чейс.
— Многие думают, — серьезно ответил Браун, — что милосердие и смирение мрачны. Не будем об этом спорить. Я ведь просто отвечаю вам, рассказываю о своей работе. Ваши соотечественники оказали мне честь: им интересно, как мне удалось предотвратить ошибки правосудия. Что ж, скажите им, что мне помогла мрачность. Все ж лучше, чем магия!
129
Речь идет о событиях, описанных в рассказе «Зеркало судьи» (опубликован в журнале «Искатель», № 4, 1966).
