Журнал «Если», 2000 № 07, стр. 67
Названные авторы имеют обыкновение ставить темы панорамно, в духе вечных вопросов российской словесности: кто мы такие? куда идем? что делать? в чем суть проблем наших дней? Посему сюжет, как правило, подчинен глобальным социально-философским разысканиям. Столь разные на первый взгляд тексты, как «Гравилет «Цесаревич» Рыбакова, «Жаворонок» Столярова, «Шаг влево, шаг вправо» Громова, «Зона справедливости» и «Алая аура протопарторга» Лукина, глубинно созвучны. Их объединяет четко выраженная творческая задача: поставить обществу диагноз и, возможно, наметить путь к излечению.
Особняком в этом ряду стоят Э. Геворкян и Е. Хаецкая. Прежде всего, оба отказались от углубленного психологизма как главного инструмента. Сколько-нибудь рельефная прорисовка психологии персонажей — редкость у обоих. Исключение представляют Сармат во «Временах негодяев» Геворкяна и отец Иеронимус в «Мракобесе» Хаецкой. Но в обоих случаях психологический рисунок героя проявляется не изнутри, не через внутренний монолог. Читатель получает образ медленно, маленькими порциями, вынося суждение по словам и поступкам героя, проходящего каскад знаковых ситуаций. Такая манера характерна для американских классиков середины XX века (Олдриджа, например). Геворкян и Хаецкая строят текст, как фильм, монтируют сцены, а не тянут действие. Еще одно симптоматическое сходство легко увидеть в «сакральности» их текстов. Оба как бы проникают взглядом сквозь завесу, отделяющую нашу реальность от арены, на которой борются высшие силы; они отгибают самый краешек завесы и позволяют читателю заглянуть за… О! Лучше было не смотреть, одно огорчение: оказывается, нашим миром управляет нечто более могущественное, чем люди.
Различие между Геворкяном и Хаецкой — в той функции, которую выполняет сюжет. У Э. Геворкяна сюжет на первом плане. Многослойные лабиринты сюжетных ходов — главная «завлекалочка», подтягивающая читателя к философии книги. У Е. Хаецкой сюжета не видно и не слышно. По большому счету, тексты Хаецкой состоят из встреч и диалогов с минимумом действия. Ее «приманка» — чарующая эстетика стилизации. В «Мракобесе», например, стилизация столь точна и столь тонко детализирована, что могла бы, наверное, удовлетворить профессионального медиевиста.
Мне не раз приходилось слышать: трудно отделить «массовых» фантастов от «элитарных». Действительно: где граница, их разделяющая? А границу принципиально невозможно провести. Вместо узенькой контрольно-следовой полосы — целый «этаж», обширная переходная зона. В танцевальной терминологии кластер перехода соответствует танго. Здесь в избытке страсти и сложности, но близость к массовому пользователю очевиднее. В 90-х годах именно этот «этаж» стал заселяться быстрее других, именно он предложил наибольшее количество «звездных» имен. Здесь обитают: С. Вартанов, В. Васильев, О. Дивов, С. Лукьяненко, В. Михайлов, М. Семенова, М. Тырин, М. Успенский, Макс Фрай и, конечно, многие другие. Сказать, что все они представляют среднее арифметическое между Лукиным и Головачевым, значит, не сказать ничего и даже исказить ситуацию. У названных писателей есть общая визитная карточка: их тексты рассчитаны на массового читателя, но не на простое обслуживание его запросов. К этому добавляется сознательное «инфицирование» пользователя некой авторской идеей, эмоциональным переживанием или индивидуальным взглядом на мир. Широкой аудитории адресуется некая эстетико-философско-социальная посылка, упрятанная в традиционную среду массолита. Так сказать, интеллектуальная начинка в массолитной обертке. Если в «менуэте» можно предложить читателю целую философскую систему с раскидистой кроной аргументов, контраргументов, различных подходов и точек зрения, то для «танго» характерно совершенно иное: всю мощь традиционного литературного арсенала и подручных средств массолита автор концентрирует для передачи одного четко обозначенного концепта. Сложности — да, меньше. Зато ударная мощь выше.
Лукьяненко под прикрытием «космической оперы» полемизирует с целой философской традицией, а заодно и со Стругацкими («Звезды — холодные игрушки»). Успенский рассказывает веселую сказочку, а по пути отрицает идею физического бессмертия («Кого за смертью посылать»). Макс Фрай устраивает магические фейерверки, мимоходом создавая рай для инфантильных интеллигентов (сериал о сэре Максе). Дивов на фоне боевика предлагает чуть ли не план социальной реформы в России («Выбраковка»). Семенова в мешок смурному вояке кладет густой феминизм (сериал о Волкодаве). Васильев в промежутках между драками заставляет своих героев поработать на антропоцентрическую идею в духе ван Вогта («Смерть или слава»). У Вартанова эльфы, люди и гоблины успевают не только порубить друг друга в капусту, но и заняться рассуждениями «о странностях любви» или о вреде гуманизма («Смерть взаймы», «Легенда»). Михайлов откровенно превращает экипаж и пассажиров космического корабля в тезисы для публицистической полемики («Беглецы из ниоткуда»). Тырин в гуще «космической оперы» ставит философскую проблему отсутствия судьбы («Дети ржавчины»).
Такая литературная технология напоминает «жесткий пиар», пресловутый 25-й кадр… И она весьма эффективна.
Многие фантасты могут быть отнесены к разным кластерам одновременно. Например, Кир Булычев, самый разносторонний отечественный писатель, с равным успехом может выступить и в менуэтном стиле («Поселок», «Река Хронос») и показать чистое «танго» (рассказы из Гуслярского цикла). Или М. и С. Дячен-ко, написавшие «Казнь» в стиле «танго», а «Корни камня» — на мелодию «менуэта». Старые тексты Ольги Ларионовой («Леопард с вершины Килиманджаро» или «Где королевская охота») — очевидное интеллектуальное чтение. Незабвенная «Чакра кентавра» любима столь многими в основном за эстетику рыцарского романтизма, но художественный арсенал здесь весьма небогат, изощренной философии тоже нет. Поэтому ближе к «танго». А вот продолжение «Чакры», «Делло-Уэлло» — откровенная «дискотека», фэнтезийный боевик, «цепляющий» архетип снежной королевы и донельзя бедный в смысле литературной отделки. Ника Перумова тянет к «танго» «Техномагия», где построен оригинальный виртуальный мир, а к «дискотеке» — почти все остальное. Раннее творчество А. Лазарчука в большинстве случаев должно быть отнесено к элитной фантастике, но в романах «Кесаревна Отрада» и «Гиперборейская чума» (последний — в соавторстве с М. Успенским) все смазано литературной небрежностью. Если «Мракобес» Е. Хаецкой представляет собой систему религиозной философии, изложенной в беллетризированном ключе, то ее же тексты, написанные в ипостаси Мэделайн Симмонс, намного проще. Они лишены ауры таинственной «сакральности» и, видимо, изначально рассчитаны на иного читателя, а потому узнаваемы как «танго».
Предложенная читателям схема, конечно же, фрагментарна и, повторюсь, сугубо интуитивна. В конце концов, это была, как говорят в науке, «попытка постановки проблемы», не более того. Но каждый может достроить здание. Принадлежность к одному из кластеров ничего не говорит об уровне известности или художественного мастерства. Они не составляют иерархии: что-то выше (лучше), а что-то ниже (хуже). Они равноправны. Для каждого из «этажей» и мастерство, и известность имеют свои критерии, абсолютно непригодные для оценки «соседей».
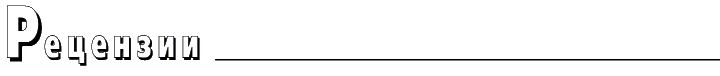
Рецензии
Роберт СОЙЕР
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Москва: ACT, 2000. — 496 с.
Пер. с англ. С. Чудова
(Серия «Лауреаты премии «Хьюго» и «Небьюла»).
8000 экз. (п)
Издательство ACT открыло новую серию, в которой будут представлены произведения, получившие одну из двух (или две сразу) самых престижных премий в фантастике. Первой книгой стала работа канадского писателя, лауреата «Небьюлы» 1995 года. Это весьма добротный научно-фантастический роман. Выйди он лет тридцать тому назад… Впрочем, такие романы и выходили в означенные времена, делая имя авторам.
