Девочка и олень, стр. 51
В других композициях она ослабила «удар кулака». Она пыталась понять Пушкина, пыталась посмотреть его глазами на Натали в счастливые минуты жизни. Но своего неприязненного отношения к Гончаровой Надя так до конца и не смогла преодолеть. Особенно отчетливо она изобразила ее чужой и своим детям и мужу в композиции, названной: «Пушкин в кругу семьи». Трое детей и няня за одним концом стола, а Натали за другим. Поэт держит сына на руках и кормит его с ложечки, девочка постарше сидит напротив и смотрит на свою красивую маму издалека. Няня принесла третьего ребенка, грудного, может быть, его тоже надо покормить, часы на камине показывают пятнадцать минут двенадцатого, но Натали, красивая, отчужденная, пьет кофе в одиночестве и смотрит куда-то в сторону.
Надя легко набросала в блокноте одни портрет Гончаровой и, перевернув лист, так же быстро набросала и второй. Оператор снимал так, чтобы видно было, как девочка рисует. В видоискатель он видел ее руки крупным планом и наслаждался зрелищем того, как спокойно и уверенно московская школьница воскрешает некогда жившую здесь женщину и обстановку вокруг нее. Удивлялся и режиссер. И только одна Надя знала, как много ей нужно было готовиться, чтобы суметь почувствовать эту домашнюю обстановку в музее, чтобы знать, что глаза у Натали Гончаровой, помимо всего прочего, были зеленовато-карие, а Пушкин однажды отпустил усы и нарисовал себя с усами на полях рукописи.
Арнольд Ильич Грессен попросил Надю проиллюстрировать две главы из книги о жизни Пушкина, тот период, когда он сам себя не изображал. Но Наде слишком близка была эта тема, и она, закончив иллюстрирование глав, продолжала рисовать дальше, вплоть до дуэли и смерти поэта.
На третий день киносъемок желтенький микроавтобус повез Надю за город. От нее требовалось постоять перед зданием Царскосельского лицея, перед памятником Пушкину в лицейском садике, пройтись по аллеям Екатерининского парка. Но девушка устала позировать, устала рисовать в кадре под пристальным, надоедливо жужжащим глазом кинокамеры. Она хотела домой, в свою комнату. К тому же начались всякие осложнения с машиной: в парк нельзя заезжать на автобусе. Режиссер пошел за разрешением. А Надя, как остановилась посередине липовой аллеи, так и стояла, не желая идти ни вперед, ни назад.
— Может, бутерброд съешь? Кофе выпьешь? — спросил отец.
— Нет, после, когда все закончится.
Николай Николаевич топтался вокруг дочери с бутербродами, с термосом, не зная, как и чем скрасить ожидание.
— Посмотри, какой красивый дворец! Вот никогда не думал, что синее с белым и золотым так красиво.
— Когда же их пропустят? — с безнадежной печалью в голосе сказала Надя.
— Ты очень устала?
— Нет, но надоело ждать.
— Ты, Надюшка, попрыгай немного, а то замерзнешь, — предложил отец.
— Не хочется.
Она отошла от него в сторону, подобрала черный прутик. Снег за деревьями по обе стороны аллеи лежал чистый, ровный, как лист бумаги. Возникли в памяти строки стихов Беллы Ахмадулиной: «Мороз, сиянье детских лиц, и легче совладать с рассудком, и зимний день, как белый лист, еще не занятый рисунком». Надя наклонилась и прочертила прутиком линию наугад, пробуя материал. Прутик ей подчинился, как фломастер, и она рядом с пробным штрихом на совершенно белом снегу белыми рыхлыми линиями изобразила арабский профиль Пушкина. Ее руки не могли оставаться без движения, без работы, без ощущения материала, из которого сделан мир. И так же, как в поезде она рисовала пальцем на стекле, так и здесь она покрывала снежное пространство головками и фигурками лицейских друзей Пушкина. Все получались очень похожими: и Дельвиг, и Кюхельбеккер, и Пущин, и даже Катенька Бакунина, хотя перед Надей был не лист бумаги, а «зимний день».
Кинооператор поднял кинокамеру над головой и включил ее. Надя вздрогнула и остановилась.
— Пожалуйста, не останавливайся, рисуй, как рисовала, — попросил оператор, — не обращай внимания на меня.
Надя подчинилась. Она снова начертила профиль Пушкина, рядом появилась Натали Гончарова. Рука девушки была уверенной и осторожной. Создавая свои пушкинские рисунки, Надя всегда чувствовала: ошибись она немножко, и линия будет не пушкинской, а линией Иличевского или Мартынова, лицейских товарищей поэта, которые тоже рисовали, но гладенько и не размышляя.
Она перестала рисовать, когда над ее головой перестала жужжать кинокамера. Несколько минут длилась тишина, которую никто не решался нарушить первым. Кадрам, отснятым в Екатерининском саду, предстояло занять в фильме важное место.
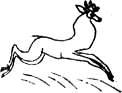
Глава XXVI. Круг
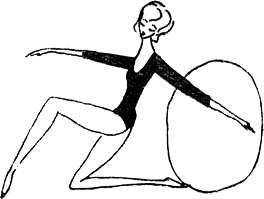
Ленка встретила Надю, как и пять дней назад, в красных вельветовых штатах и красных домашних туфлях с белыми шарами-помпонами. Но вместо кофты на ней был свитер, и она еще куталась в плед.
— Представляешь, у наших соседей батареи потекли, и весь подъезд отключили. Хожу, замерзаю. Ты не раздевайся.
Надя сняла шапочку и, держа ее в руке, прошла в комнату, не раздеваясь.
— Помнишь, ты хотела купить виды зимнего Ленинграда и не нашла? Я тебе привезла, — сказала она.
Ленка приняла буклетик, развернула, но смотреть не стала, отметила только верхнюю открытку:
— Лошади на Аничковом мосту. Вот мерси.
Она от смущения сказала «лошади», а не кони. Ей было очень приятно получить подарок от Нади.
— Как снимались? Что нового видела в Ленинграде?
— Снимались, как все снимаются, а нового… Видела, как Медный всадник шевелит ногами. Пушкин не зря оживил Петра I и заставил скакать за Евгением. Случайно открыла… Есть одна точка, когда идешь от Исаакиевского собора к набережной вдоль ограды памятника. У всадника ноги свисают с крупа лошади параллельно, и вот, когда внезапно посмотришь на самой середине, а сама продолжаешь идти, то видишь, как одна нога уходит вперед, а вторая — назад. И передние ноги лошади, вздыбленные вверх, также шевелятся. Оптический фокус. Все в жизни оптический фокус. Сама идешь, двигаешься, а кажется, что двигается и идет тот, на кого ты пристально смотришь.
— Какая-то ты странная, Надьк, как будто еще не приехала.
— В Эрмитаже были с отцом очень коротко. В зале Рубенса видела дикторшу Центрального телевидения Анну Шилову. Оказывается, она позировала Рубенсу для картины «Союз земли и воды». На переднем плане стоит, облокотившись на кувшин. Еще один оптический фокус.
— Надьк, ты не то говоришь, — забеспокоилась Ленка. — Что было в Ленинграде?
— Ничего не было.
Взгляд Нади упал на маленькую скамеечку, стоящую под торшером сбоку тахты. На скамеечке лежала раскрытая книга. Надя нагнулась, взяла книгу и посмотрела обложку.
— Альбрехта Дюрера читаешь?
— Вынуждена читать, — сказала Ленка. — Я сижу с тобой за одной партой, а ничего про твоих художников не знаю. Что было в Ленинграде?
— Помнишь, в Эрмитаже, в египетском зале, мы видели папирус? Папирус, на котором написана сказка о потерпевшем кораблекрушение. Фараон послал одного из своих приближенных на рудники, но его корабль попал в бурю. Корабль утонул, а приближенный оказался на необитаемом острове. И вот он пишет отчет своему фараону. Там есть такая фраза: «Я провел на нем три дня в одиночестве, и только сердце было моим спутником». Только сердце. Я поняла в Ленинграде, как это бывает, когда только сердце остается спутником. Ты, Ленк, никому не говори. Я встретила Таню на киностудии, и она поблагодарила меня за то, что я им не звоню. Я не должна больше им звонить. Я решила его больше никогда не видеть. И когда я это решила, у меня даже сердце остановилось. Не знаю, как я завтра проснусь. Я же сразу вспомню, и мне не захочется вставать. Она у меня отняла надежду.
— Что же ты теперь будешь делать?
