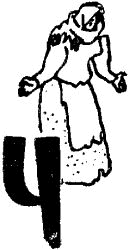Тимошкина марсельеза, стр. 10
Репкин успевал достать хлеб для артистов, обеспечить охрану музея, срочно напечатать в типографии плакаты для фронтовых поездов. Всё это было необычайно трудно, но Репкин справлялся.
— Я родился под счастливым созвездием, — говорил Луначарский. Он был доволен своим помощником.
В царском дворце
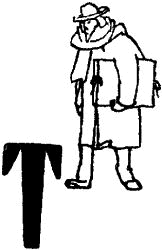
Тимошка долго оглядывал комнату в царском дворце, в которой помещалась комиссия по делам просвещения и искусств.
С восхищением дотрагивался до золочёных стульев. И вдруг увидал себя в зеркале. Сначала он отступил, а потом, подойдя совсем близко, дотронулся рукой до холодного стекла. Бледный, усталый мальчишка в плисовой кофте тоже приложил ладонь к его ладони. Тимошка наклонил голову и, тот, другой, тоже. Шея у мальчишки в зеркале тонкая, голова кудлатая, нечёсаная.
— Вот какой я?.. — удивился Тимошка, продолжая смотреть на своё отражение.
— В это зеркало царь гляделся, любовался на свою персону! — сказал Репкин и, подмигнув Тимошке, встал рядом с ним. — А теперь мы!
Репкин поправил свой рыжеватый чуб и, обняв Тимошку за плечи, усмехнулся.
— Ничего!
— Что — ничего? — не понял Тимошка.
— Мы с тобой ребята что надо!
В это время зазвонил звонок. Тимошка вздрогнул.
— Кто это?
— Это телефон, телефон!.. — Репкин подошёл к столу и сказал в трубку: — Я слушаю.
Тимошка никогда такого не слыхал.
— Смеёшься? — сказал он. — Пугаешь?
— Кого пугаю? — И Репкин засмеялся. — Чудак ты, на, послушай!
С опаской прижав трубку к уху, Тимошка услыхал, как кто-то спрашивал:
— А плакат, товарищ Репкин?
— Отпечатали. Привезли.
Окончив разговор по телефону, Репкин расстелил на столе плакат.
— Так, поглядим, — сказал он Тимошке.
На плакате белая трёхголовая гидра, взвившись на упругом хвосте, разинув пасти, из которых торчали острые жала, нападала на солдата, держащего в одной руке винтовку, а в другой — красный флаг.
— Флаги-то у нас есть, — сердито сказал Репкин, — а вот оружия — на семерых одно, и то без патронов… Я бы отрубил этой гидре одну голову. Плакат для армии, в нём должна быть надежда на победу, а без надежды — зачем его рисовать?
— Ты руби все три, — посоветовал Тимошка. — Она, гадюка, наверное, живучая?
— Ишь ты какой! Аника-воин! — удивился Репкин.
— Я и грамоте умею! — похвастал Тимошка.
— Кто же тебя учил?
— Дед маленько, а больше сам по вывескам.
— Как же это? — поинтересовался Репкин.
— Как? Иду, читаю: «Чичкин — молоко, сметана, сыр», «Портной Михайлов, поставщик двора его величества. Шьём визитки, сюртуки, фраки».
Выпятив живот, осмелевший Тимошка важно расхаживал по комнате.
— Ишь ты! — смеялся Репкин.
А Тимошка продолжал:
— «Булочная Филиппова — пироги, калачи, баранки, сайки с изюмом!», «Павел Буре — часы нашей фирмы».
Подойдя к Репкину и заглянув ему в лицо, Тимошка доверительно предложил:
— Хочешь, я тебе часы украду золотые?
Репкин нахмурился:
— Ты что же, и читать и воровать умеешь?
Тимошка понял, что перехватил.
— Ты не думай, я не ворую. Вот те крест. Это когда я с Толиком был… Я и при деде не воровал.
Он испугался. Ну-ка матрос скажет: «Знаешь что, иди ты куда хочешь, а я тебя и знать не желаю, если ты ворюга»?
Репкин молчал. Он смотрел на маленькие обветренные Тимошкины руки.
— Я не ворую, — повторил Тимошка. — Я работаю. Я один по дворам хожу. Не веришь?
Тимошка вздохнул, прикрыл глаза и вдруг запел. Сначала тихо, потом всё громче. Он пел не за пятак, не за кусок хлеба, а чтобы ему поверили.
Репкин слушал и удивлялся.
Тимошка пел песню без слов, которую «поют ангелы».
— Теперь могу романс, — сказал он, открыв глаза.
— Мать-то помнишь? — спросил Репкин.
— Нет, — ответил Тимошка.
Он не мог признаться Репкину, что в его памяти вдруг возникало, как видение: зной, жужжит муха, жарко и трудно дышать. Кто-то берёт его на руки, умывает, уносит в прохладу и баюкает. Может, это и была мать?
— У меня мамаша померла, — сказал Репкин. — Ждала меня, да не дождалась.
Тимошке тоже стало жалко Репкина…
А Репкин вспоминал мамашу, рассказывал, как она ходила по соседям, просила, чтобы ему писали письма на флот.
— Старенькая померла, а я был у неё один. Вот, брат, какие дела!
Тимошка, слушая Репкина, не знал, что ему сказать. И не мог себе представить, что Репкин был тоже маленьким.
Спали Репкин с Тимошкой на плакатах. Плакаты ещё пахли типографской краской. Но спать на них было не жёстко. Репкин укрыл Тимошку поверх его одёжки ещё газетами. Согревшись, Тимошка заснул безмятежно, даже похрапывал.
Когда наступило утро, Репкин разбудил Тимофея и сказал:
— Пригладь вихры, и вот тебе талончики.
— А на кой они? — спросил Тимошка.
— Пойдём поедим, — ответил Репкин.
Тимошка гордо шёл за Репкиным по дворцовым переходам и, скользя по кафельному полу царской кухни, встал впереди Репкина в очередь. Они отдали свои талончики солдату в фартуке и колпаке, и им дали по полной миске чёрной горячей чечевицы.
— Заправился? — спросил Репкин у Тимошки, когда тот выскреб и вылизал свою миску.
Тимошка в ответ улыбнулся во весь рот.
— А теперь, браток, — сказал Репкин, когда они вернулись обратно в комнату комиссии, — у меня работа. Придётся тебе до вечера меня обождать.
— Я обожду, — ответил Тимошка.
И уселся на стул в стороночке.
Дверь в комнату не затворялась; в неё то входили, то выходили разные люди, и все спрашивали у Репкина про какого-то Луначарского. Один очень худой человек, закутанный башлыком, положил перед Репкиным на стол парусиновую папку.
— Я — художник, — сказал он и стал вынимать из папки листы. — Смотрите, смотрите, товарищ, это «Крушение мира»! — И художник, отступив, поднял лист с рисунком над головой. — Смотрите!
— Верю! — соглашался Репкин. — Но ничем помочь не могу.
— Талон на обед можете? — спросил художник.
— Это, пожалуйста, но только один, — предупредил Репкин.
Получив талон, художник поспешно собрал со стола «Крушение мира» и удалился, не поблагодарив.
И снова входили люди и спрашивали:
— Когда будет Луначарский?
— Мы к комиссару просвещения!
Репкин отвечал вежливо:
— Запомню, доложу.
Только с одним, который пришёл в роскошной шубе и старался взять криком, Репкин поспорил:
— Вы потише, — сказал он. — Я слышу — кричать нечего.
— Мне петь в казарме?! С ума сошли, товарищи! — возмущался владелец роскошной шубы.
Не повышая голоса, Репкин стал ему разъяснять, что петь в казарме — большая честь. А когда певец, хлопнув дверью, ушёл, Репкин покачал головой:
— Знаменитый певец, а революционного сознания не имеет.
— Ты бы сразу на него пистолет наставил, — посоветовал Тимошка. — Не видишь, что ли? Буржуй!
— Ничего, образумится, — сказал Репкин. — Запоёт!..
В царском дворце было не топлено. Ноги у Тимошки окоченели, и он, сидя на своём стуле, постукивал нога об ногу, стараясь согреться.
— Озяб? — спросил его Репкин.
— Маленько. А ты что же всё не работаешь? — Тимошка ждал, когда Репкин начнёт работать и когда ему перестанут мешать.
— Как — не работаю? — удивился Репкин. — Ну и Тимофей! Подожди, вечером на квартиру пойдём. Там, брат, отогреешься!
— А можно, я за Ахиллом сбегаю? — спросил Тимошка.
— Это можно, — разрешил Репкин. — Беги! Дорогу-то обратно найдёшь?
Тимошка даже засмеялся:
— Да меня куда хошь заведи — я найду.
— На суше — не на воде: не потонешь! — пошутил Репкин. И строго наказал: — Чтобы без баловства, понял?
За Ахиллом