Мы с Санькой в тылу врага, стр. 29
Третьей никто не нашел. Наверно, закатилась куда-нибудь под куст либо кто-нибудь затоптал в ил.
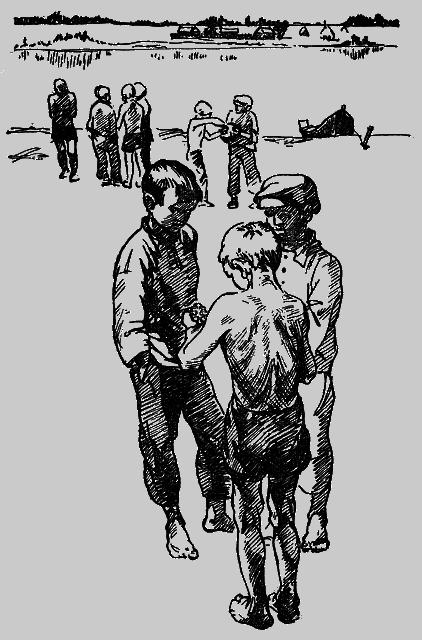
Домой идем радостные. Если считать ту гранату, что выменяли у Храброго зайца на противогаз, да бабушкину «толкушку», всего их у нас уже три.
— Только эта может не взорваться, — горюет Санька, придерживая рукой карман, который оттягивает находка. — Верно, отсырела в воде.
— Давай положу дома на печь, чтоб высохла, — предложил я.
— А у нас что, печи нет? — отвел мою руку Санька и добавил еще, что нечего рот разевать на чужие гранаты. Нужно было самому поискать, если сушить охота. Меня охватила злость. Как же это так? Ищем боеприпасы вместе, вместе собираемся в партизаны, и вдруг итальянская граната — чужая! Если на то пошло, так я первый заметил противогаз, который мы отдали в обмен Зайцу; если уж считаться, так немецкая толкушка в полной исправности, а эта — без пуговки. Слово за слово, и я назвал Саньку жадиной, а он меня вороной. На том и разошлись.
А назавтра утром, когда от сердца отлегло и мы с Митькой зашли к Саньке во двор, тетя Марфешка встретила нас, как долгожданных гостей:
— А-а, пришли, бисовы дети, щоб вы сказылыся, щоб вас земля не носила. Полюбуйтесь!
Любуемся. В окнах ни одного стекла, осколками усыпана дорожка во дворе. В хате того не лучше: печь разрушена, на полу валяются залитые водой головешки, у порога — расколотый надвое чугун и белая россыпь недоваренной картошки. Пахнет горелой тряпкой и мокрой золой.
Санька сидит в уголке на скамье, глаза заплаканы, под одним — здоровенный синяк, нос расквашен, опух и блестит, как стекло. Ходить Санька не может: болит нога.
— Цэ и вы такие безголовые? — спрашивает нас с Митькой тетя Марфешка. — Вы тоже в печь бонбы пхаете?
Мы молчим, только носами шмыгаем.
— Цэ ж добре, цэ ж добре, що так еще обошлось. Мне как веление было, как под бок кто толкнул — иду по воду! А цэй бис, — и она основательно дернула Саньку за соломенную гриву, — лежал на печи. Не свернуло тебе шею, нечистая сила…
Санькина мать места себе не находит. Она собирается позвать Санькиного дядю Харитона. Может, тот починит печь да заодно хорошенько «оженит» самого Саньку.
— Он оженит, — и с новой силой вспыхивает ее злость, — он оженит и долю даст, хай тебе грэц! — И, выходя за порог, опять заводит: — Шла к колодцу — была труба, иду назад — нет трубы. Ах, чтоб тебя…
Раз уж дело дошло до «женитьбы», нам с Митькой здесь делать нечего. Мы заглянули в проем потолка, через который труба выходила на крышу, — светится небо. Посочувствовали Саньке и давай бог ноги: придет Харитон — и нам не поздоровится.
В том, что итальянская граната наделала беды, Санька, между нами говоря, не виноват. Он положил «яйцо» в печь на теплый под до утра. Жару там не было, только держалось тепло. Он рассчитывал встать раньше матери, взять уже сухую гранату и отнести в тайник, да проспал.
Мать наложила в печь дров, наставила чугунов, зажгла сухую щепу и пошла по воду. Пока она судачила с соседкой у колодца, что-то бабахнуло. Подходит к хате — трубы как и не бывало.
А Санька вообще сперва ничего не понял. Неведомая сила подхватила его, с грохотом швырнула на пол и огрела по лицу кирпичом. Вокруг дым, головешки. В дверях стоит до смерти перепуганная мать и голосит, как по покойнику. А Санька не слышит ее причитаний, в голове у него гудит, словно он приложил ухо к телеграфному столбу.
Лишь недели через две вышел Санька на улицу, да и то еще прихрамывая.
— Ну, а Харитон тебя оженил? — спросил Митька.
— Хотел, — скромно признался мой приятель.
Мне он рассказал больше. Харитон все же надрал ему уши и еще добавил после того, как, перекладывая печь, обнаружил в соломе тайник: пропали наши патроны, пропала наша толкушка.
Теперь мы совсем обезоружены.
28. Я ПОВТОРЯЮ ПОДВИГ СУСАНИНА
Стонет в трубе вторая военная зима. Ночью потрескивают от мороза бревна в стенах. Обвила землю белыми бинтами вьюга, засыпала наш ручей, сковала озеро, замела дороги, насыпала сугробы выше заборов. Воробьи забились под стрехи. Я, Глыжка и Санька — на свои печи. Нас бы там и на привязи не удержали, если б было что надеть. В нашем тряпье далеко не разгонишься, разве что выскочишь посмотреть, не попался ли в силок снегирь.
Глухо на печи. Редко-редко скрипнет дверь и с морозным облаком заглянет в хату какая-нибудь новость. То Чмышиха-монашка придет — дайте ей жару растопить печь, то дед Мирон завернет проведать, как мы живем.
У Чмышихи одни новости.
— Господи! — закатывает монашка глаза. — Это ж надо! Вокруг все разбили, а стояла часовня со святыми образами, и песчинка даже не упала, лампадка как горела, так и горит. Бог не допустил.
У деда Мирона новости другие.
— Вчера всю Сортировочную перепахали. Ты поглядела бы, Матрена, как рельсы покрутило, прямо в узлы посвязывало. Во сила. А поезд с бензином горел — смотреть страшно. Взялись, видать, наши, оправились. Может, даст бог, и дождемся… — И под косматыми бровями заискрятся глаза, потеплеет взгляд. А потом помолчит и вздохнет: — Где ж это мой Василь? Сны про него нехорошие Гапа видит.
Отца моего тоже не слыхать.
Наши теперь прилетают каждую ночь. Повесят над городом фонари — снег глаза так и слепит. Хлопают высоко в черном небе разрывы зенитных снарядов, глухо стонет земля.
Фашисты задумали наших перехитрить. На берегу озера, за деревней, они наставили фанерных самолетов, из железных бочек наделали корыт и жгут в них во время налетов мазут. Это для того, чтобы наши подумали, будто здесь аэродром, и бросали на него бомбы. Так наших и обдуришь. Они и глядеть не хотят на этот «аэродром».
Зато на городище одну бомбу сбросили. Там стоял немецкий прожектор. Прожектор не светил дня три, а потом и вовсе на другое место переехал.
Когда спал мороз, мы побежали смотреть воронку. Вот это ямища! Не то, что была у Скока на огороде от немецкой бомбы. В эту уж точно целая хата влезет.
— Хороша галушка! — с гордостью за советскую бомбу сказал Санька. А Митька — так тот и подавно в этом деле знаток.
— Фугаска, — внес он полную ясность. — Осколочная такой ямы не выроет.
Как-то Митьке привалило счастье. За огородами, в болоте, он нашел совсем целехонькую ракету, такую, что подвешивают самолеты для освещения. Здоровая такая труба — покряхтишь, пока на плечи подымешь. Парашют из шелкового полотна Митька взял себе, а нам, как хорошим товарищам, позволил наковырять по полному карману того, что горит.
Но оно не только горит, оно еще и стреляет, Возьмешь кусочек с горошину, положишь на обух и молотком как ахнешь — будто из ружья. Теперь во многих дворах, где есть такие вояки, как мы, только и слышно:
— Бах! Ба-бах!
Однажды моя бабушка нам с Санькой едва уши не оборвала за эти штучки. Она боится, как бы глаза не выжгло. И что ты ей скажешь? Если б еще в военном деле разбиралась хоть вот настолечко, не так обидно было бы слушать.
А сегодня нам повезло. Она пошла к деду Николаю смолоть немного ячменя. У деда есть своя мельница, сооруженная из толстой сосновой колоды и чугунных черепков. Прежде я молол, а теперь бабушка мне не доверяет: пока кручу жернов, половину муки щепотками в рот переправлю.
Не успела за бабушкой хлопнуть калитка, как в хате началась пальба. Мы воткнули топор в щель между половицами и давай дубасить молотком по обуху. Аж стекла звенят. Чтобы Глыжка нас бабушке не выдал, мы и ему пару раз дали бабахнуть и еще обещали дать, если он будет наблюдать в окно — не идет ли кто.
И только это по разу-другому пальнули, Глыжка в испуге скатился со скамьи:
— Немеч!
Санька за свой «заряд» и в карман, а я и топор не успел спрятать, не очень-то его вытащишь из щели — по самый обух загнали.
Это был высокий худощавый офицер с большим хищным носом. Шагнул через порог и подозрительно нюхает воздух, пытливо рассматривает меня, Саньку и Глыжку.
