Вафельное сердце, стр. 16
Когда пришла грузовая машина, я встал у окна канатной дороги и смотрел, как грузчики, Ленина мама и Исак выносят из белого домика коробки. В последний момент вышла Лена. Я думал, им придется тащить ее, но она вышла сама и села назад в машину Исака. Я понял, что мне надо спуститься вниз, но сперва я зашел к себе и снял со стены Иисуса.
Лена не посмотрела на меня. Между нами было толстое стекло машины. Я постучал и даже удивился, когда она опустила стекло. Узкой щели как раз хватило для того, чтобы я просунул в нее Иисуса. И чтобы я сумел сказать в нее «пока». Но, видно, она была недостаточно широка, чтобы Лена ответила.
— Пока, — прошептал я еще раз, но Лена лишь крепко потянула на себя мою наследную картину и еще сильнее отвернулась от окна.
И они уехали.
В тот вечер мне было так грустно, что я вообще не знал, как жить дальше. О том, чтобы заснуть, и речи не было. Папа понял это, потому что поздно вечером он поднялся ко мне. С ним была гитара.
Я ничего не сказал. Присевший рядом папа тоже молчал. Он спел «Трилле-тилле-бом», как в детстве. Это лично моя песня, папа написал ее специально для меня. Спев ее, папа сказал, что сочинил новую песню специально для меня, эта песня дня называлась «Грустит папа, грустит сын».
— Хочешь послушать, Трилле?
Я кивнул едва заметно.
И пока зимний ветер задувал на улице, а в доме все спали и видели сны, папа спел мне «Грустит папа, грустит сын». Мне было почти не видно его в темноте. Я только слышал.
Внезапно я понял, для чего мне папа.
Когда он закончил, я разрыдался. Я рыдал до икоты. Я плакал о том, что у Лены нет папы, и что баба-тетя умерла, и что мой лучший друг уехал, не сказав даже «прощай».
— Я никогда больше не вылезу из кровати!
Ничего страшного, он будет носить мне еду прямо в постель, пообещал папа, а я могу спокойно лежать здесь до конфирмации. Я зарыдал еще пуще. Получалась какая-то кошмарная жизнь.
— Я больше никогда, никогда не буду радоваться? — спросил я.
— Конечно, будешь, Трилле-бом, — сказал папа и взял меня на руки, как будто бы я малыш.
Так я и заснул в тот вечер у него на руках, надеясь никогда, никогда больше не проснуться.
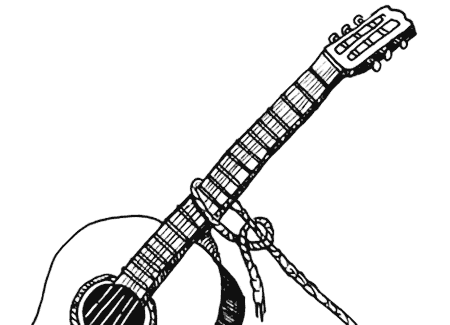
ДЕД И Я
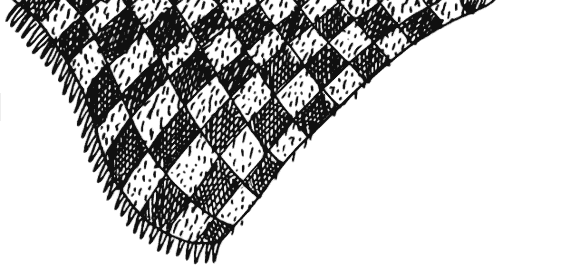
Я все-таки вылез из кровати на другой день.
— Чего я буду лежать? — сказал я деду, и он от всего сердца поддержал меня.
— Да, дружище, это тебе не поможет.
Но я перестал радоваться, хотя через пару дней, может, это уже не было заметно. Я ходил, бродил, я старался улыбаться всем, кто был со мной ласков (а ласково держались со мной все), но в душе я оставался очень несчастным. Я вдруг останавливался посреди какого-то дела и не мог понять, как может все так мгновенно измениться. Совсем недавно Щепки-Матильды была полна вафель бабы-тети и криков Лены, и внезапно все самое в жизни дорогое отнялось у меня. Мне не с кем стало ходить в школу, не с кем играть, кроме Крёлле, не с кем сидеть в окне канатной дороги. Где-то внутри меня был большой щемящий комок грусти, и он болел все время. Больше всего — из-за Лены.
Без нее все в жизни изменилось. По деревьям не хотелось лазить. Ноги не бежали и не шли. Лена, как выяснилось, заведовала и едой тоже, потому что вдруг все потеряло всякий вкус. Даже бутерброд с паштетом, даже мороженое — все казалось безвкусным. Я стал подумывать совсем бросить есть. Пожаловался деду, но он посоветовал, наоборот, воспользоваться моментом и начать кушать вареную капусту и рыбий жир, раз уж мне все равно.
— Не проворонь свой шанс, парень!
Дед был самым лучшим, что осталось у меня в жизни. Он все понимал и не лез в душу. И он тоже грустил и тосковал. Как все на хуторе. Нам было плохо без бабы-тети, и без Лены, и без ее мамы. Но мы с дедом скучали сильнее всех. Проснувшись, мы начинали горевать — и горевали весь день, пока не укладывались спать.
Прошла целая неделя, и я даже прожил без Лены первую пятницу, и вот мы с дедом сидим за столиком в его небольшой кухне и слушаем ветер. Утром я сходил в школу, туда и обратно я шел один. Вернулся я совершенно синий от холода и слез. Кроме деда, дома никого не было, и он сделал мне горячий кофе. Он налил мне полчашки и положил десять сахарков. Дед — это просто чудо. Десять сахарков! Я рассказал ему, как прошел день. Мальчишки говорят, что в классе без Лены стало скучно. Теперь у нас класс какой-то тихий и примороженный, совсем не такой образцовый, каким он должен был бы стать без девчонок, по представлениям Кая-Томми. Я замолчал и машинально ковырял сахар. Мысль о том, что Лена никогда больше не будет учиться в моем классе, была такая горькая, что даже заболел живот.
— Дед, я так ужасно скучаю, — сказал я под конец и снова заплакал.
Тогда дед посмотрел на меня серьезно и сказал, что скучать по кому-то — самое прекрасное из всех грустных чувств.
— Пойми, дружище Трилле, если кому-то грустно оттого, что он скучает без кого-то, значит, он этого кого-то любит. А любовь к кому-то — это самое-самое прекрасное на свете чувство. Те, без кого нам плохо, у нас вот тут! — и он с силой стукнул себя в грудь.
— Ох, — вздохнул я и вытер глаза рукавом. — Дед, но ведь ты не можешь играть с тем, кто у тебя здесь, — и я тоже ударил себя в грудь и вздохнул.
Дед тяжело вздохнул и все понял.
И мы замолчали, дед и я. Ветер дул за стенами дома с шумом и воем. У меня не было никакого желания идти кататься на санках самому с собой.
Когда я вернулся, мама уже приготовила на обед мое самое любимое блюдо. В третий раз за эту неделю. Наверно, стоило ей сказать, что мне теперь все невкусно, но я смолчал.
Когда я ложился спать, мои улыбательные мускулы болели от напряжения. Они перетрудились и устали.
— Боженька, верни мне обратно вкус еды, — попросил я.
Щемящий комок грусти у меня в животе не давал мне спать. Взамен я лежал и слушал, какая на улице непогода. Вдруг что-то ударило в стекло.
— Спасите! — в ужасе вскрикнул я и сел.
В стекло снова ударило. Эх, если бы мой Иисус висел сейчас у меня над кроватью! Я уже спустил ноги бежать к маме-папе, как кто-то крикнул шепотом:
— Открой окно, тормоз!
Я вскочил и в секунду очутился у окна. Под ним стояла Лена. Зимой посреди ночи.
— Я уж думала, придется разбить окно, что бы ты наконец услышал, — сердито сказала она, когда я распахнул створки.
Немного спустя мы уже сидели на кухне и пили теплую воду. Это самое тихое, до чего мы додумались. Лена сидела в шапке. Она бежала много часов подряд и замерзла так ужасно, что у нее стучали зубы.
— Я буду жить в сарае.
— В сарае? В нашем сарае?
Лена кивнула. И всхлипнула. Я видел, как она борется изо всех сил, чтобы сделать нормальное лицо. Но ничего не получилось — она долго боролась с собой, и все-таки под конец брызнули слезы. Лена Лид, которая никогда не плачет!
— Лена, — сказал я и легонько коснулся ее щеки. Я не знал, чтомне можно, — вдруг она начнет драться или еще хуже, если я вздумаю утешать ее всерьез.
— У тебя есть спальник или нет? — спросила она грубо.
— Есть.
Той ночью я засыпал единственным посвященным в тайну того, что мой лучший друг вернулся в Щепки-Матильды. Лена спала сейчас в сарае в спальнике, закутавшись еще в одеяло и зарывшись в сено. И хотя боязно лежать в темноте в сарае совсем одной, она, конечно, спала мертвецким сном, потому что рядом с ней лежал мой Иисус.
