О любви и прочих бесах, стр. 18
— Ты права, — сказал он. — Гадость.
Девочка не обращала на него никакого внимания. Когда он принялся лечить ее воспаленную щиколотку, она содрогнулась от боли и не смогла скрыть слез. Он подумал, что боль ее смягчила, стал нежно утешать ее, как заправский пастор, и в конце концов осмелился освободить ее от ремней и дать ей возможность размять тело. Она с облегчением пошевелила затекшими руками и вытянула одеревеневшие ноги. И впервые подняла глаза на Делауро, смерила его взглядом, прицелилась, рванулась и бросилась на него, как дикий зверек. Тюремщица помогла ее усмирить и связать. До того как уйти, Делауро вынул из кармана сандаловые четки и повесил их Марии Анхеле на шею поверх ее африканских ожерелий.
Епископ не на шутку встревожился, увидев его расцарапанное лицо и укушенную руку, явно внушающую опасение. Но еще большую тревогу у епископа вызвала реакция Делауро, который с удовольствием демонстрировал свои раны, словно военные трофеи, и не выражал ни малейшей боязни заразиться бешенством. Тем не менее епископский врач взялся за лечение с трепетом и ужасом, как те, кто считает затмение луны в понедельник предвестием страшных бед.
Напротив, бедная сиделица Мартина Лаборде не встретила никакой вражды со стороны Марии Анхелы. На цыпочках, со всей осторожностью она пробралась в камеру девочки, связанной на кровати по рукам и ногам. Мария Анхела насторожилась и глядела на Мартину с подозрением и опаской до тех пор, пока та не улыбнулась. Тогда она тоже улыбнулась и безоговорочно сдалась. Ей казалось, что в камеру проникла душа старой Доминги.
Мартина рассказала, кто она такая и почему должна быть в тюрьме до конца дней своих, хотя уже охрипла повторять по много раз на день о своей невиновности. Когда старуха спросила Марию Анхелу о причине ее заключения, девочка смогла ответить только то, что слышала от своего экзорциста:
— Во мне сидит бес.
Мартина к ней больше не приставала, подумав, что либо девочка врет, либо ей врут, и не подозревала, что она, Мартина, — одна из тех немногих белых, которым Мария Анхела открыла правду. Старуха показала ей свое вязанье, и девочка попросила освободить ее от пут, чтобы тоже научиться вязать. Мартина вынула из кармана своего балахона ножницы и сказала:
— Я тебя освобожу, но предупреждаю: если ты меня выдашь, мне придется тебя зарезать.
Мария Анхела поклялась, что не выдаст. Освободившись от ремней, она так же быстро и легко освоила искусство вязания, как когда-то игру на лютне. Перед уходом Мартина обещала добиться разрешения на их свидание в следующий понедельник, в день полного затмения солнца.
В пятницу на рассвете ласточки перед своим отлетом чертили в небе широкие круги и кропили улицы и крыши дождиком белого зловонного помета. Невозможно было ни есть, ни спать, пока полуденное солнце не высушило нечистоты, а утренний бриз не очистил воздух. Но ужас, овладевший всеми, не исчезал. Никогда не видели такого, чтобы ласточки гадили на лету, а вонь от испражнений удушала чуть ли не насмерть.
В монастыре никто не сомневался, что Мария Анхела вполне способна менять законы птичьей миграции. Тревожное напряжение витало в воздухе, и Делауро это почувствовал, когда шел через сад с корзиночкой уличных сластей. Мария Анхела, далекая от мирских волнений, тихо лежала на кровати. Четки она не сорвала с шеи, но не удостоила его ни ответом на приветствие, ни взглядом.
Он сел рядом, достал из корзиночки фруктовую пастилу и стал жевать с видимым удовольствием.
— Очень вкусно, — сказал он с полным ртом и поднес кусочек ко рту девочки. Она отвернулась, но к стене не отодвинулась, как ранее, а кивнула на дверь: мол, тюремщица подсматривает. Он раздраженно махнул рукой на дверь и приказал: — Уйдите отсюда!
Когда тюремщица удалилась, девочка было сунула пастилу в рот, так как в животе урчало от голода, но тут же выплюнула:
— Воняет ласточкиным говном.
Однако в ее настроении произошли перемены. Она позволила смазать бальзамом потертости на спине и впервые задержала взгляд на Делауро, на его забинтованной руке. Потом спросила с простодушным интересом, который не мог быть наигранным, что это значит.
— Меня укусила одна бешеная собачка с ужасно длинным хвостом, — ответил Делауро.
Мария Анхела захотела взглянуть на рану. Делауро снял повязку, и она быстро мазнула пальцем по фиолетовой припухлости, отдернула руку, как от огня, и в первый раз засмеялась.
— Страшнее чумы, — сказала она.
Делауро ответил ей не словами из Евангелия, а цитатой из Гарсиласо:
— Верь тому, кто умеет сострадать.
Его бросило в жар от предчувствия того, что нечто огромное и неотвратимое вторгается в его жизнь. При выходе тюремщица сообщила ему от имени настоятельницы, что в монастырь запрещено приносить съестное с улицы ввиду угрозы отравления ядовитыми продуктами, как это было во времена английской осады города. Делауро солгал ей, что принес корзиночку с разрешения епископа, и выразил официальный протест по поводу того, что заключенные получают такую отвратительную пищу в монастыре, который славится своей прекрасной кухней.
За ужином Делауро читал епископу вслух с особым подъемом, присутствовал с ним на вечернем молебне и молился с закрытыми глазами, чтобы лучше представлять себе Марию Анхелу. Он уединился в своей библиотеке раньше, чем обычно, не переставая о ней думать, и чем больше думал, тем думать хотелось еще больше. Он декламировал любовные сонеты Гарсиласо и боялся найти в стихах зашифрованный намек на свое собственное будущее. В эту ночь ему не спалось. До рассвета он сидел за письменным столом, уткнувшись в книгу, которую не читал. В три утра в полусонном забытьи услышал молебен в соседней капелле, возвещавший наступление нового дня. «Да хранит тебя Бог, Мария Анхела», — пробормотал он, еще не совсем проснувшись. Его разбудил собственный голос, и, открыв глаза, он увидел Марию Анхелу в ее тюремном балахоне с длинными огненными волосами, рассыпанными по плечам. Она выбрасывает увядшую гвоздику из вазы и ставит в туда букет свежих гардений. Делауро вместе с Гарсиласо взволнованно прошептал: «Ради тебя я родился, ради тебя я живу, ради тебя я готов умереть, ради тебя умру». Мария Анхела улыбнулась, не взглянув на него. Он закрыл глаза, желая убедиться, что это не обман зрения и не игра теней. Когда он раскрыл глаза, видение исчезло, но библиотека полнилась ароматом свежих гардений.
Четыре
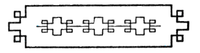
Падре Каэтано Делауро был приглашен епископом встретить затмение солнца на террасе под навесом с желтыми колокольчиками, в этом единственном месте Дворца, откуда открывалось все небо над морем. Чайки с распростертыми крыльями, неподвижно зависшие в воздухе, казалось, умерли прямо в полете. Епископ, только что проснувшийся после сьесты, лежал в гамаке, натянутом между двумя железными стойками, и лениво обмахивался веером. Делауро покачивался с ним рядом в плетеном кресле-качалке. Оба пребывали в благодушном настроении, попивая тамариндовую воду и поглядывая поверх крыш на безоблачный небосклон. Около двух часов пополудни стало темнеть, куры затихли в курятниках, и все звезды загорелись в одно и то же время. Мистический ужас овладевал миром. Епископ слышал, как запоздалые голуби шуршали крыльями, влетая в голубятни.
— Бог всемогущ, — вздохнул он. — Даже твари безгласные это чувствуют.
Дежурная монахиня принесла свечу и задымленные стекла для наблюдения за солнцем. Епископ приподнялся в гамаке и стал обозревать затмение через стекло.
— Смотреть надо только одним глазом, — сказал он, тяжело и хрипло дыша. — Иначе можно потерять оба.
Делауро сжимал стекло в руке и не смотрел на солнце. После долгого молчания епископ обернулся к нему и увидел его поблескивающие в полумраке глаза, далекие всем чудесам и страхам нагрянувшей ночи.
— О чем ты думаешь? — спросил он.
Делауро не ответил. Сверкающий солнечный серп резал глаза, но теперь он уставился на него не моргая и не пользуясь темным стеклом.
