Портрет неизвестной в белом, стр. 7
Глава 8
В самолете. Два Ивана

Сосед справа все время таращился – через них обоих – в окно. Так как за окном ничего решительно, кроме тумана, турбины и крыла, не было видно, Иван Грязнов в конце концов перепугался. Ему показалось, что этот дядька учуял что-то неладное в работе моторов. И стало уже мерещиться, что самолет вибрирует, а мотор как-то неестественно тарахтит.
Его тезка мирно спал у окна, привалившись к стенке. А Ване-оперу стенки самолета вдруг показались совсем-совсем непрочными…
Он летел к материной сестре. Тетка всегда его жалела. Правда, сейчас она еще не знала, что племянник ушел из дому. И ее отношение к этому поступку прогнозировать было трудно.
На авиабилет Ваня потратил ровно треть заработанных за лето денег и теперь летел, можно сказать, в пустоту. Ну, правда, еще вторая тетка, к которой забежал в Златоусте, перед тем как отправился в Оглухино, поохав, поахав и поругав его отца и мачеху, выгребла все, что у нее было, оставив до пенсии 30 рублей – на хлеб. Но было-то у нее всего 480 рубликов.
Конечно, московская тетка с голоду помереть не даст, но лишних денег у нее тоже не было. У отца он решил не брать.
Как все сложится у него дальше, Иван не знал и, сурово наморщив лоб, размышлял над своим будущим.
Ване же Бессонову было проще – он летел к отцу, о чем заранее договорился и с ним, и с матерью, вдвоем с которой жил в Петербурге. В подтверждение договоренности отец прислал ему в Оглухино эсэмэску: «Приезжай, сынок, ждем». Множественное число означало присутствие и участие мачехи. Собственно, называть так Аллу было неправильно. Мачеха – замена матери, если матери нет. У Вани мать была, и Аллу правильно было бы называть «жена отца». Еще правильней – «отцова жена». В Оглухине так, пожалуй, и сказали бы. Но в Петербурге и Москве почему-то так не говорили.
Когда Ваня приезжал к отцу, у него с Аллой, совсем молодой женщиной, все было нормально. Ему нравилось больше всего, что она веселая и остроумная. Они даже состязались в придумывании каламбуров:
вынуть из ножек шашни,
Паваротти рек,
без стыда и следствия,
Иванов и Петров вкупe – с ударением на последнем слоге.
Особенно у них ценились шутки литературные – Алла была филолог, «филологиня», как немного насмешливо говорил отец, «черный» металлург.
Первое место в этих состязаниях пока было за фразой: «А эта грудь не слишком ли нога?» – переиначенная пушкинская строка. Ваня с Аллой хохотали, а отец говорил с нарочитой строгостью: «Кощунство! Это же Пушкин!» Алла задорно отвечала: «Пушкин сам бы смеялся громче нас!»
Мы, конечно, не будем напоминать читателям стихотворение Пушкина «Сапожник» – они и без нас помнят, как «Картину раз высматривал сапожник И в обуви ошибку указал». И как художник тут же взял кисть и поправил. А сапожнику это так понравилось, что, «подбочась, сапожник продолжал: “Мне кажется, лицо немножко криво… А эта грудь не слишком ли нага?..”»
Ваня восхищался тем, как дальше художник этого зарвавшегося ценителя «прервал нетерпеливо: “Суди, дружок, не свыше сапога!”»
Это было круто еще и потому, что лицо-то и грудь находятся как раз выше сапога. И получается, что слово «свыше» будто переливается разными своими значениями. Ваня подозревал, что именно поэтому строка и стала поговоркой. Правда, в неточном уже виде. Не «свыше», как у Пушкина, а попроще – «выше». Тем, кто у нас в России любит с важным видом судить обо всем на свете, в том числе о том, о чем понятие имеет самое туманное, время от времени кто-нибудь да и скажет: «Знаешь, что? Суди, дружок, не выше сапога!» Ваня, любитель и ревнитель точности, об этом искажении пушкинской строки горевал, но поделать ничего не мог.
Еще ему нравилось – «высматривал» вместо «разглядывал». Полазив по «Словарю языка Пушкина», который был у Аллы, он увидел, что поэт любил этот именно глагол, а «разглядывать» вообще не употребил ни разу (только «разглядеть»). И Ивану самому захотелось как-нибудь ввернуть в разговор это слово именно в том самом уже забытом значении. Ему нередко этого хотелось при чтении Пушкина – когда речь, звучавшая вокруг, казалась особенно пресной или бессмысленно-грубой.
В общем, в Москве у отца было весело. Но когда Иван возвращался в Петербург, и мама, стараясь удержаться, все-таки расспрашивала об отце, он видел, что она отца не забыла и даже, ему казалось, продолжает любить. Ване становилось ее очень жалко и про Аллу хотелось думать плохо.
Женя перед своим отъездом с Томом и Мячиком отдала Ване конфетную коробку со старыми письмами – их нашел Витёк на чердаке опустевшего дома тети Груши и Анжелики. Он наткнулся на эту перевязанную ленточкой ветхую коробку, когда через чердак проникал в дом и искал куртку Олега. Куртку он отыскал. И в ней-то и нашла Женя записку, предназначавшуюся Лике. Вот это и было самое важное – с Олега теперь снималось главное, что было ему предъявлено на суде, – что запиской он будто бы Анжелику вызывал туда, где ее убили. А записка-то вообще осталась в его кармане. Анжелика прочла – себе на беду – не замеченный им случайно получившийся отпечаток записки…
А коробку Витек тогда тоже решил на всякий случай захватить: он уже знал, что иногда на чердаках находят важные бумаги – например, письма с фронта.
Женя увидела только одно – что письма с ятями и с ерами, то есть твердыми знаками. И поняла, что написаны они еще до советской власти. Папа ей давно объяснил, что букву «ять» и твердый знак в конце слова после согласной отменили в 1918 году. А вдруг их писал какой-нибудь знаменитый человек? И вручая письма Ване Бессонову, Женя сказала коротко:
– Ты лучше всех разберешься.
И Ваня, если честно, надеялся здесь на помощь Аллы. У него, как и у Жени, было предчувствие, что конфетная коробка таит в себе нечто необычное.
Глава 9
В самолете. О чем думал Ваня Грязнов
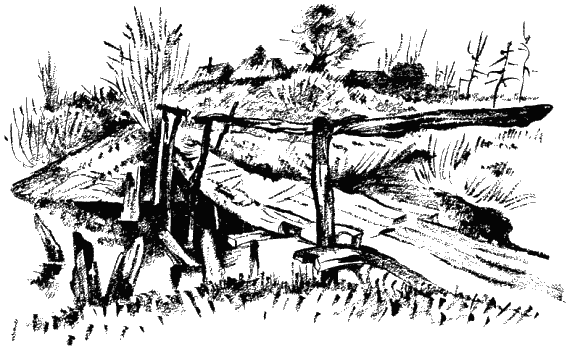
А у Вани Грязнова было свое задание. Друг детства его отца, полковник милиции, работал в Москве. Отношения их в последнее время охладились. Но Ваню он, своего сына не имевший, любил, в последний раз, уезжая из Златоуста, звал в Москву и вообще предлагал обращаться за любой помощью. Как чувствовал, что скоро она понадобится.
Дело в было в таинственной записке, находившейся в конверте, который какой-то незнакомец оставил еще в марте жителю Оглухина Горошине – с тем, чтобы тот передал конверт другому незнакомцу.
Вручение конверта Горошине происходило как раз в тот день, когда утром откопали в снегу тело бедной Анжелики. Но за пять месяцев так и не появился в Оглухине ни один, ни другой. И в августе, когда все члены Братства туда съехались и Горошина принес в дом Мячика конверт, было принято решение – конверт вскрыть.
В записке было всего две строки. Одна – Дуга 1982 БрИ. Вторая – Дать 50. Со второй было ясно – пятьдесят долларов было обещано Горошине, если он вручит конверт тому, кто за ним обратится. А первая была расшифрована соединенными мозговыми усилиями Кутика и Вани-опера. Они пришли к решению (или гипотезе), что это – номер ячейки (23) и шифра (1982) в камере хранения Курского вокзала. Туда один человек вез что-то важное – и сообщал шифр другому, чтобы тот это важное забрал. А взято было это важное в Оглухине. Где – неизвестно. А оба человека, повторим, – и тот, кто вез это в Москву, и тот, кто должен был получить шифр и, видимо, поехать за этим туда же, – исчезли.
Сейчас Ваня Грязнов надеялся, что знакомый полковник поможет вскрыть ячейку на Курском вокзале и проверить их предположение. Без милиции вскрывать чужую ячейку Ваня никогда бы не стал. Но картинка, как они с Бессоновым приходят в вокзальное отделение милиции, начинают размахивать конвертом Горошины и объяснять Кутиковы слова про сборные Бразилии и Италии (а именно через футбол – представьте себе! – расшифровал Кутик записку; об этом рассказано было в первом томе нашего правдивого повествования), тоже как-то плохо рисовалась. Вот почему надежда его была на полковника Пуговошникова, дядю Толю.
