Половина собаки, стр. 21
— Погоди, Мадис…
У меня на сердце все еще что-то свербило.
— Знаешь… такое дело… нам, пожалуй, больше не удастся спрятаться от зубного врача там, в каморке за залом. Директор уже знает, и власти тоже… Я был вынужден объяснить, как спасся из каморки со своим ключом.
Но Мадис не стал ни упрекать, ни ворчать, что я выдал нашу общую тайну.
— Ха! — сказал Мадис. — Знаешь, и пора уже, давно пора: у меня в одном коренном зубе такое дупло, как кратер Везувия, полбулочки за шестнадцать коп помещается и сто граммов «Детской колбасы» впридачу. Самая пора позволить врачу запломбировать его половиной килограмма замазки, а то я больше никогда не смогу наполнить свой желудок!
Я смотрел Мадису вслед, пока он не исчез в ольшанике. Слышны были только звуки, издаваемые поломанным велосипедом: щелк, щелк… Ему придется так катить до самого дома. И я подумал: «До чего же все-таки хорошо, если у тебя есть настоящий, истинный друг, который возьмет тебя на пастбище, вызовет милицию спасать тебя и даже готов принести сам такую жертву, на какую далеко не все мальчишки способны — добровольно позволит запломбировать свой коренной зуб!»
Но этажом выше меня ждали Леди и мама, которая, похоже, испекла оладьи… В отношении их у меня «верхнее обоняние»!..
ЛЕТО ПЕСТРОЙ БАБОЧКИ
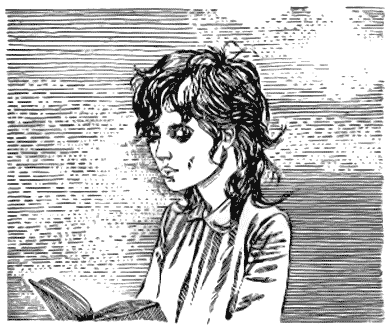
Я сидела на большом сером камне, положив подбородок на колени и обхватив их руками. Кто выдумал фразу «счастливое детство»? Наверное, какой-нибудь очень старый и очень несчастный человек… Сейчас я хотела быть старой или хотя бы взрослой, которая может приходить и уходить когда угодно и куда угодно. Ушла бы очень далеко — туда, где меня никто не знает, и ушла бы сразу! Вернулась бы лет через двадцать, а может, не вернулась бы никогда…
Вода тихонечко плескалась о камень, озеро блестело и переливалось розовым, голубым и желтым, словно в нем полоскали тысячи кисточек из-под акварельных красок. Поодаль в камышах шебаршилось семейство уток. Родители-утки время от времени спорили о чем-то на своем утином языке. Может быть, они обсуждали проблему воспитания своих детей…
И вдруг я представила себе, как в космосе вращается планета Земля: зеленый, голубой, желтый шар, который до того огромен, что маленькое зарастающее озеро Лауси ничего для него не значит, а уж этот серый валун, на котором сидит десятилетняя девчонка, и подавно. Было такое ужасное, грустное чувство одиночества, что хотелось сочинять стихи, кричать или плакать. Но плакать я была больше не в состоянии — слезы кончились. Кричать было неловко, совсем неподалеку виднелся маленький желтый дом, в котором жила семья художника Сунилы. Что бы они там сказали, если бы услыхали, как я ору ни с того ни с сего? Подумали бы небось, что Тийна спятила. Сочинять стихи о том, что я чувствовала сейчас, не получалось. Настоящие поэты, наверное, умеют превращать грусть в стихи, — скажем, так: «Пламенеет озеро на заре и сверкает как золото…»
О грусти в том стихотворении вроде бы ничего не говорится, и, однако же, когда читаешь его, становится грустно. Но как должна писать стихи та, которую никто не любит, даже ее собственная мать? И отец у нее не родной, и ее дразнили раньше и скоро опять начнут дразнить «Водка-Тийна»…
За все свое «счастливое детство» я была счастлива лишь один год. И сегодня это прекрасное время вдруг кончилось. А ведь могло бы оно продлиться хотя бы до Нового года, или хотя бы еще две недели — до моего дня рождения — мог бы задержаться со своим приходом этот сегодняшний недобрый день.
Сегодня утром мы всем классом поехали в Карилу. И я ведь очень хотела поехать туда вот так, как сегодня: празднично одетая и хорошо причесанная, сидя в автобусе рядом со своей соседкой по парте, которую зовут Пилле. Мне хотелось поехать в Карилу и показать Карилаской школе, что я не глупая, грязная и ленивая девчонка, как, похоже, они все там думали, что я не Золушка, но даже если и была ею, то теперь обратилась в принцессу. Правда, у меня не было ни кареты из тыквы, ни лошадей, в которых превратила мышей добрая фея, ни самой доброй феи, но был дядя Эльмар, муж моей мамы, которого я все никак не могу назвать отцом, — честный и порядочный работяга. «Если они там, в Кариле, станут спрашивать, как нам живется в Майметса, немного преувеличу, — решила я утром, — скажу, что у меня целых две свои комнаты, хотя уже то, что у меня одна-единственная совершенно своя комната, наверняка окажется для них потрясением! Уж у Вармо-то челюсть отвалится, а это главное. Но ему еще придется услышать, что у меня в табеле четверки только по физкультуре и математике, а по всем остальным предметам пятерки, и тогда до него небось дойдет, что он несправедливо обзывал меня тупицей и горемыкой, что никакая я не горемыка, как они все там, в Кариле, считали!»
Говорят, что утро вечера мудренее. И вот уже вечер, и я сижу здесь, на камне, и никого не хочу видеть. Что с того, что мой портрет в Майметса на школьной Доске почета! Я опять чувствую себя как Горемыка, Золушка, Скопище несчастий и Водка-Тийна — столько прозвищ было у меня в Карилаской школе. У хорошего дитяти всегда много имен… Но главное — сегодня я струсила и предала свой класс. Трусость и предательство всегда ходят рука об руку. Именно из-за моей трусости Майметсская школа, которую я так полюбила, проиграла товарищеские соревнования Карилаской школе, где на меня нагнали такой страх, что при одной мысли об этом потеют ладони.
В кармане зашуршала бумага. Я хотела себе назло еще раз перечесть угрожающее письмо Вармо, но под руку попалась в кармане совсем другая бумага — та, на которой было записано мое приветственное стихотворение Карилаской школе:
Это стихотворное приветствие я придумала сразу без переделок — тотчас после того, как Пилле сообщила мне свою великую новость и, наевшись красной смородины, умчалась обратно домой на новом складном велосипеде.
— Ой, Тийна, ты и не знаешь, за это время был милли-о-он событий! — тараторила Пилле. — Во-первых, в нашем классе новенький, его зовут Тынис, он приехал из города. У него большущая коллекция марок, штук пятьсот, наверное, в альбоме. И еще через неделю у нас будет встреча с Карилаской школой — товарищеские соревнования по шашкам, лапте и самодеятельности, и… Ах, да, Олав поймал двух настоящих преступников в школе, конечно, с помощью моего отца, но все-таки… Они с Мадисом построили катамаран. Вообще-то это такой плот, вернее, часть старого забора, но мы точно и не знаем, каким должен быть катамаран. И мы на нем плавали по озеру, это было здорово! Ах да, ты должна написать об этом стихотворение, учительница Маазик сказала.
— Но я ведь тоже не знаю, что за штука этот катамаран.
Пилле рассмеялась:
— Нет, не о нем, о товарищеской встрече надо написать стих! Ну, мол, добро пожаловать!.. Нет, добро пожаловать не годится, ведь мы сами едем туда. Ты напиши, мол, мы рады встретиться с вами, все-таки соседи… Или что-нибудь в этом роде.
— Мы поедем в Карилу?
— Знаешь, раньше наша школа с этой школой дружила, теперь надо обновить отношения! — объясняла Пилле.
Я сразу подумала: а как мать отнесется к тому, что я поеду в Карилу, да еще буду там читать стихи? Но Пилле сама уладила это: она заметила, что моя мама собирает смородину в саду, пошла к ней и сказала вежливо, как взрослая:
— Здравствуйте, Тийнина мама! Я соседка Тийны по парте — Пилле Сийль и пришла сообщить Тийне, что в следующую субботу наш класс встречается в Кариле с тамошним четвертым… Вернее, пятым классом. Классная руководительница просила, чтобы Тийна написала на этот случай стихотворение. Знаете, Тийна у нас прямо настоящий писатель!
