Энергия подвластна нам, стр. 19
Форрингтон, сидевший рядом с Хаггером на лёгком жёстком кресле, смотрел прямо перед собой. На экране появилась Луна. Сейчас она была такой, каким земной спутник виден в телескоп средней силы. Руки Макнилла управляли клавишами. Голос, тянувший «оум», понизился и ускорил своё бормотание. Смотрящим на экран – сэр Артур и немец сидели, а Томас Макнилл стоял сзади них – показалось, что они несутся вперёд с непередаваемой скоростью. Только привычка Форрингтона к смелым опытам удержала его на месте. Челюсти сэра Артура сжались. Пальцы крепко охватили ручки кресла. Границы желтовато-белого диска Луны мгновенно расширились на экране и выскочили за его пределы. С какой-то непостижимой скоростью они мчались к Луне или Луна мчалась к ним! Немного кружилась голова; чувствуя, как у него сжимается сердце, Форрингтон на мгновение закрыл глаза. Когда он их вновь открыл, на него летел знакомый кратер Эратосфена. Ещё мгновение, – и удар!..
Движение прервалось внезапно. Невольно сэр Артур подался вперёд и почти коснулся лбом экрана. Да! Поверхность Луны была видна так же, как виден ярко освещённый двор из окна пятого этажа! Можно было сосчитать все трещины сухой, мёртвой каменной плиты.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
НОВОЕ И СТАРОЕ
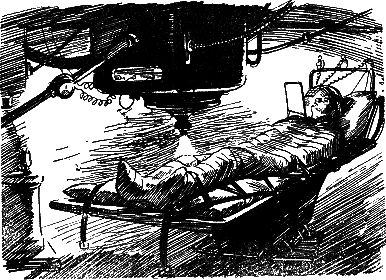
Глава первая
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ
ШЕЛЕСТИТ свежими листьями, играет яркими красками весёлое чернолесье. Быстро поднимаются вверх осины и ольха, легко обгоняют в росте молодой дубок и заслоняют от него солнце.
Время идёт. Слабые осины и ольха рано дряхлеют. Мхи покрывают их мёртвые стволы, упавшие на землю. Идя по лесу, не наступайте на них, – не найдёт опоры нога, хотя форма дерева и сохранилась. Осталась только хрупкая оболочка, – под ней пустота, жилищ насекомых и змей.
А сверстник осин и ольхи, дуб, стоит прочно. Он полон жизни.
Прекрасна молодость, но ведь и старость может быть временем силы! Иной человек находит своё высшее счастье в полноте творчества, подготовленного долгими годами труда, и не променяет свою могучую старость ни на какие радости юности…
В новой Москве уцелели уголки, пока ещё оставшиеся вне красных линий реконструкций. Эти переулки, площадки, тупики кажутся чем-то весьма архаичным по резкому контрасту с высокими каменными громадами новых широчайших улиц.
В одном из таких кривых тупиков, в котором заметно нежелание старинных застройщиков подравнять под одну линию скромные фасады своих домов, вы найдёте дом старомосковской постройки. Что же, может быть, пора его покрыть колпаком, чтобы сохранять живую память у потомков о быте дедов и прадедов? Однако он ещё прочен и уютен.
Дом одноэтажный, с мезонином. Хотя кирпич цоколя начал трухляветь, он ещё долго продержится. Белые стены – на вид каменные. На самом же деле сруб из мерных сосновых брёвен обит войлоком снаружи и изнутри. Старые московские мастера строительного дела с таким искусством выполнили внешнюю отделку и так она прочна, что пока не отобьют кусок добротной штукатурки, человек, не искушённый в наших старых строительных приёмах, обязательно будет спорить:
– Смотрите же сами, конечно, дом каменный!
Четыре ступени под шатровым навесом крыльца ведут посетителя к двери, у которой какой-то особенно гостеприимный вид. На широкой дверной филёнке гладкая бронзовая доска, на ней двумя строчками вырезаны три слова: имя, отчество, фамилия.
В этом доме, как видно, много читают: даже в столовую проникли книжные шкафы. Через стекло на одинаковых кожаных корешках десятков толстых томов, стоящих в ряд на полке, можно увидеть годы минувшего столетия.
За столом в столовой сидят две женщины: молодая, лет двадцати четырёх или двадцати пяти, и невысокая седая старушка. Бронзовые волосы обрамляют нежное лицо молодой женщины. Голос её звучит весело. Утомлённые черты лица её собеседницы, покрытого крупными морщинами, носят печать долгой и, наверно, далеко не всегда лёгкой жизни. Но её ясные глаза и живые движения свидетельствуют о сохранившейся бодрости тела и силе духа.
– Право же, дядя Федя стал каким-то удивительно молодым за последнее время! – говорила молодая женщина. – Когда мы перед его отъездом возвращались с дачи в поезде, он живо вскочил и предложил какой-то женщине своё место – это нужно было видеть! Та даже растерялась. А когда я хотела его посадить на своё место, он на меня зашикал: «Я совсем не устал, глупости, сидите, пожалуйста». Так и ехал стоя.
– Я как-то слышала, как Фёдор Александрович говорил Ивану Петровичу, – я их поила чаем в кабинете, – что он начал жить только в последние десять лет, – сказала старушка. – А всё, что было раньше, – это только подготовка к их теперешним работам. И так убеждённо говорил! Он ведь очень всегда увлекается… Вот, ты этого не можешь помнить, это было в 194… году, когда справляли его шестидесятилетие. Он очень взволновался после всех речей, и когда ему пришлось говорить, – я слышу, голос-то задрожал. Уж я его знаю. Федя тут же на себя рассердился, и на всех тоже и стал страшно громко говорить, что он благодарен, конечно, и, конечно, всё это очень пышно, что он, конечно, очень мало сделал и что он, конечно, ещё должен много сделать, чтобы оправдать доверие. Он всегда, когда волнуется, говорит «конечно».
«А потом он совсем запутался в своих «конечно» и только махал руками, и все громко аплодировали. А когда к нему побежали студенты, он так взлетел вверх по лестнице, что они его не догнали. Я тоже наверх пошла. Федя заперся в своём кабинете. Студенты стучат в дверь, просят открыть. А он им оттуда кричит: «Не выйду, пока не дадите слова, что качать: не будете, я не хочу!» Они закричали: «Даём слово!» Федя тогда выходит, такой спокойный, точно дома, поднял вверх палец – ты эту манеру знаешь – и говорит: «Все идите по своим местам!» Заметил меня, покосился и спрашивает: «А ты тут что делаешь?» А сам чуть улыбается.
«Я ему на следующий день показала «Известия», где описывался юбилей. Там было сказано, что юбиляр выступил с прочувствованной речью. А Федя говорит: «Какие журналисты вежливые, только не напрасно ли? Нужно было побранить, потому что у меня речи не получилось и в общем получился беспорядок». А вот когда ему давали первую правительственную награду, я хоть там и не была, но он мне сам рассказал, что у него слёзы были, а стыдно ничуть не было. Уж он у нас такой, Таточка…
– Анна Александровна, мама Аня, милая, хорошая, расскажите мне подробно о дяде Феде! Ни Коля, ни Алёша, то есть Алексей Фёдорович, ничего не умеют толком рассказать и вы мне ничего ещё подробно не рассказывали, – приласкалась к старушке молодая женщина, её невестка.
– Ты ведь знаешь, Тата, брат Федя старше меня на десять лет. Я была ещё девочкой, а он – уже студентом. Федя с детства отличался способностями и был такой серьёзный. Он гимназистам уроки давал. У него и сейчас память замечательная. Он каждую книгу помнит, не только, что написано, но и на какой странице, год издания, издателя… Он как-то подарил мне полное собрание сочинений Тургенева. Я тогда была уже невестой. Потом он меня спрашивает: «Прочла „Накануне“»? «Прочла», – отвечаю. И, как сейчас помню, Федя говорит: «А что на сто двадцать восьмой странице?» Я, конечно, не знала. Он прочёл строчку. «Продолжай», – а я не могу. Тут он, – мне так обидно показалось, – и сказал: «Как же ты читаешь? А ещё замуж собираешься, невеста!» Потом Федя с годами стал мягче, а прежде он совсем не понимал, что нельзя от всех требовать того, на что он сам был способен. Но я вперёд забегаю. Когда он кончил гимназию, папа умер и у мамы надежда была только на Федю. Он поехал учиться в Петербург, в Путейский институт, – и себя содержал, и нам присылал. Мама плакала иногда и говорила, что ему очень трудно – и он себе во всём отказывает. Помню, какая радость была, когда он к нам приехал уже инженером, в новенькой фуражке. Федю послали на практику на железную дорогу, на казённую постройку. Я в тот год вышла замуж. Мы жили одной семьёй с мамой. Жить нам стало легче. И Федя всё время маме деньги присылал, а мама его деньги копила и всё говорила: «Это Феде, когда он женится». Она очень этого хотела. А от Феди скрывала свои сбережения – с ним нельзя было поступить не по его.
