Путаный след, стр. 33
— Ты, — шепнул Мите толстогубый, когда старшина отошел, — не играй на трубе. Просись на альт.
— Почему? — спросил Митя.
— На трубе трудно, а на альту легко. Любому дураку понятно. У тебя покурить есть?
— Есть, да не про вашу честь, — шепнул Митя. — Не мешай заниматься.
— Конец занятий, — объявил старшина. — Приготовиться на обед!
Митя положил трубу на стул и направился к забору.
— А ты куда? — удивился старшина.
— К мамке. Обедать. — Митя вскарабкался на забор.
— К мамке! — Старшина и все музыканты рассмеялись. — А ну живо в строй! Теперь забудь мамку! Слезай и становись последним. Ну!
— Дяденька старшина… — обратился он.
— Не дяденька, а товарищ старшина, — поправил тот. — В чем дело?
Митя вытащил из-за пазухи пачку.
— Закурите!
Музыканты так и прыснули. Старшина схватился за сердце. Он выхватил у Мити пачку, скомкал ее и закричал:
— После обеда мыть полы! Ясно? Вместе с ним. — Он показал на толстогубого. — В столовую шагом марш!
— Я буду воду носить, — шептал Мите толстогубый, явно радуясь, что не одному ему драить пол у хозяйственников, — а ты будешь мыть, ага?
— А зачем он папиросы-то разорвал? — так же шепотом спросил Митя. — Я же ему принес.
— Дурак, он же не курит, — усмехнулся толстогубый. — Не мог мне отдать «Звездочку». Эх, ты!
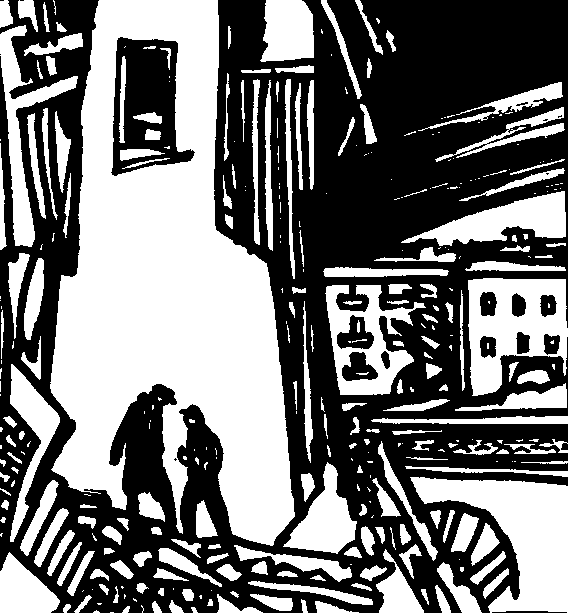
ПОСЛЕ БЛОКАДЫ ЧЕРЕЗ ГОД
Рассказ
Р. Погодину
— Казанский следуща!
— Следуща, — ворчливо передразнил кондукторшу висящий на подножке трамвая мужчина в довоенном дорогом пальто, из-под которого выглядывал белый ворот выгоревшей гимнастерки. — Наехали тут всякие!
— А платить кто будет, а? Интеллигенция! — высунувшись по пояс в окно, закричала кондукторша. — «Наехали»! На пятнадцать копеек совесть сменял, да!
— Возьми ты, ради бога, пятнадцать копеек. На! Только молчи.
— Боженьки, а на колбасе-то что делается! Всех на остановке в милицию стащу!
С колбасы ответили дружным смехом.
— Эй, подвиньтесь, ну подвиньтесь, вам говорят! — кричал какой-то военный, догоняя трамвай, путаясь в полах длинной шинели и брякая подковами сапог.
— Пустим капитана?
— А куда?
— Всем надо ехать, подвинемся.
— Черт, прямо на мозоль прыгнул.
— Спасибо, хлопцы. Опаздываю. Фу, еле догнал.
Трамвай дополз до Казанского, и Витьку с колбасы сдернули. Началась давка, казалось, вот-вот перевернется вагон. Наверное, Витька как-нибудь зацепился бы, но у собора продавали эскимо. Эскимо простое, белое, по пятерке. За ним длинная очередь. Впереди Витьки старушка в очках разговаривала сама с собой:
— Надо взять десять штук. Вскипячу в маленькой синей кастрюльке. Поставлю на керосинку и вскипячу.
— Кипятить-то и не надо, — сказали из очереди. — Только подогреть и пить.
— Простите, — вздрогнула старушка. — Что вы сказали? После десятого марта я плохо слышу. Десятого нас завалило в бомбоубежище.
Эскимо отдавало металлическим привкусом сахарина, но Витька с удовольствием грыз льдистый бесцветный столбик. Всё-таки какая-то еда. А есть Витька хотел не меньше, чем в блокаду. Он начал быстро расти. Четыре года носил то, в чем до войны в шестой класс ходил, и вдруг всё стало трещать; пиджак ещё ничего, а брюки совсем коротки, пришлось надевать отцовские галифе.
На ногах у Витьки тяжелые кирзовые сапоги с подрезанными голенищами. Тоже отцовские. Витьку наряд не смущает. Весь Ленинград так ходит.
Шумно на Невском и тесно. Толкают, только успевай поворачиваться. Тесно, но весело. Надоело безлюдье за блокаду. Народ, правда, психованный, успевают на ходу друг другу мозги вправить: мол, ты в тылу сидел, а я на фронте четыре года… и разное такое. Но всё равно хорошо! Как Витька в блокаду боялся, что останется город пустым и трамваи никогда не стронутся с места, и тишина будет вечная…
— Гончаров, подожди, слышь, Гончар! — окликнули Витьку.
Широко улыбаясь, размахивая руками, навстречу спешил Лукин. Чудак этот Лукин! Они вместе учились в ремесленном. Лукин был откуда-то с Урала, широкоплечий, белозубый, восторженный. Он после занятий любил ездить на Невский, а потом всех донимал расспросами. Больше всего его изумляли мосты и изваяния лошадей. Лошадей он разглядывал подолгу, раскрыв рот от изумления и то и дело покачивая кудрявой головой. Кудри у него буйные, светлые, а глаза голубые. За эти глаза и кудри Витька недолюбливал его, называя про себя «бабой». Сметаной, наверное, одной кормился в своей деревне. И ещё: уж слишком Лукин возится со своими тряпками, гладится, чистится. Брюки у него какие-то немнущиеся. Говорит, из бостона. Подумаешь, директор ремесленного и то в галифе ходит, а этот вырядился. Невский проспект ему нравится, а родная Витькина Гавань — нет. Шпаны ему там слишком много.
— Гончар, ты не знаешь, зачем эти…
— Лошади? — злорадно усмехнулся Витька.
— Колонны у церкви. Зачем так много, а?
— Какая же это церковь. Не видишь, собор!
— Ну, — удивился Лукин, — собор? А окна на той стороне, смотри.
— Ну, окна.
— Красота, верно? Куда же ты, постой! Скажи, а зачем эти…
— Лошади?
— Львы, там на Неве я видел?
— Отстань.
— Неужели не знаешь, а? Еще ленинградец!
— Пошел ты…
Не объяснять же ему, что Витька больше всего на свете любит Гавань. Любит её старенькие — один этаж деревянный, другой кирпичный — домики. Любит залив и Петровский ковш, Василеостровский, или «Васин», сад, Дворец Кирова, Голодай… Не говорить же ему, что в Эрмитаже Витька был лишь раз до войны вместе со своим классом и что для него Ленинград — это его Гаванская улица, а пляж на косе, может, он любит не меньше Эрмитажа…
В столовой ремесленного училища бил в ноздри постный запах капусты, гремели бачки, звякали ложки. Ремесленники сидели на длинных скамьях, плотно притиснутые друг к другу, и жадно уплетали щи-овощи. После практики в прокатном цехе каждый смог бы уплести целый бачок.
Витька не заметил, как проглотил свои щи-овощи. В животе была такая же легкость, как и до ужина. Неплохо бы прикупить пайку хлеба. Он поглядел в конец стола, где сидели низкорослые близнецы Старухины, похожие друг на друга, как две алюминиевые тарелки. Близнецы частенько продавали хлеб. В общежитии у них стоял сундучок с железными уголками. В сундучке — деревенские припасы. Каждый месяц к Старухиным приезжал кто-нибудь из деревни, привозил сало, масло в стеклянных банках и другую жратву. Старухины ни с кем не делились, но зато продавали хлеб, и на этом большое спасибо.
Витька перехватил взгляд одного из братьев и нарисовал в воздухе горбушку. Старухин важно сдвинул брови, подумал, поджал тонкие губы и согласился.
— Витька, а где же Лукин? — спросили сбоку.
Витька поискал белые кудри Лукина. Действительно, где он? Неужели поехал в город без ужина? Не может такого быть! Вон и пайка его на месте. Горбушку-то он бы прихватил обязательно.
Сегодня в прокатке Лукин отличился. Разделся по пояс, нацепил фартук на голую грудь и давай шуровать в печи раскаленные добела болванки. Разошелся — не остановить. Покрикивает. Сизакова, бывшего с ним в паре, так загнал, едва тот поспевал подправлять болванки на рольганг.
— Эй ты, русалка толсторожая! — вопил запарившийся Сизаков. — С ума стронулся, что ли! А ну потише шуруй, говорю!
Какое там! Лукин в азарт вошёл. Вся группа за ними стала наблюдать и удивляться.
— Давай, давай, напарничек, не подкачаем! Пятилетка в четыре года, ур-ра! Даром, что ли, хлеб едим.
