Том 22. На всю жизнь, стр. 32
А за столом синие глазки старшого братишки щурятся при моем появлении:
— Встаньте! Не видите разве — идет невеста!
И все вскакивают со своих мест и вытягиваются передо мною во фронт, как солдаты. По их мнению, невеста — это почетная должность, вроде командира полка или начальника города.
Варя дуется на меня и часто шипит надо мною, когда я лежу в постели:
— Нечего сказать, убила бобра! И нашла же ты себе жениха! Да он тебя своей тоской да молчанием в могилу вгонит! Не приведи Бог!
— Он хороший, добрый, Варя, — утешаю я девушку.
— Что-то доброты его я не видела. Сидит, молчит да глядит, как сыч, только и доброты у него.
— Нет, он добрый, по глазам видно, — поддерживает меня Эльза и крепко обнимает меня.
Борис Львович приходит теперь ежедневно и целые вечера просиживает у нас. И я вижу, как тает угрюмая туча на его лице, и светлое, простодушное выражение заменяет недавнюю мрачность. Его лицо делается таким счастливым, когда я подле него.
Нет, нет, я не раскаиваюсь, что дала ему это счастье.
В конце января — наша свадьба.
Смутно, словно в тумане, переживаю я этот день. Что-то пестрое, шумное, полное блеска, огней и приветствий, какой-то сумбурный сон.
Меня одевают Эльза, Варя, приехавшие сверстницы, подруги.
Твердо соблюдается обычаи. Старший братишка обувает ноги, не забывая вложить золотые монеты в маленькие туфельки, — это чтобы быть богатой, как поясняет мама-Нэлли. Потом мама-Нэлли и «Солнышко» благословляют в гостиной посреди большого ковра. В глазах обоих слезы. Милые, не плачьте!
А у самой стучит сердце, и глаза становятся мокрыми.
Прощаясь с сестренкой, не могу успокоить ее. Ниночка плачет и кричит неистово.
Но вот появляется Тима, шафер жениха, с букетом белых роз от Бориса и объявляет, что жених уже ждет в церкви. В передней, пока меня укутывают в ротонду, я бросаю мимолетный взгляд в зеркало: хрупкая девичья фигурка, тонкая, прямая; венчальный костюм и фата невесты, а под белыми цветами флердоранжа — совсем детское лицо.
Вот так "дама"!
Отвешиваю себе низкий реверанс, состраиваю гримасу, чтобы развеселить своих, и, путаясь в шлейфе, спешу на подъезд.
Полковая церковь. Хор певчих. Толпа приглашенных и густо чернеющие мундиры выстроенных шпалерами солдат, пожелавших присутствовать на свадьбе их молодого поручика. Еще толпа, еще блестящие мундиры и дамские туалеты. Испуганное личико младшего братишки, несшего образ впереди нас, меня и «Солнышка», подводившего меня к аналою, — все это смешалось и отступило назад при виде светлой улыбки счастливого человека, сиявшей мне теперь с середины церкви: улыбки моего жениха. И под ее ободряющим светом, опираясь на руку отца, я подошла к аналою и встала подле Бориса — и обряд начался.
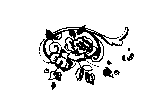
Часть третья

Ненастная осень. Нудно стучат холодные капли о мокрую крышу двухэтажного длинного здания. Огоньки фонарей отражаются в огромных лужах. Там, подальше, высятся другие нескладные здания. Это казармы. За казармами бесконечно широкое поле, в конце его кладбище.
В девять часов играет труба горниста. Затем вечерняя перекличка, и глухо доносится сквозь мокрые от дождя оконные рамы стройное и дружное пение солдатского хора, поющего вечернюю молитву. Потом все стихает, и только шаги дневального нарушают тишину.
Желтое здание — это офицерские квартиры, где живут семьи стрелков. Впрочем, не для всякого человека желтое здание — семейный дом. Есть одна душа в этом доме, которая самым настойчивым образом считает желтое здание старинным средневековым замком. Старинный замок оторван от всего прочего мира. Он построен на острове, среди кипучих волн большого озера. И не весь офицерский дом, собственно говоря, представляет собой замок, а одна только крайняя из его квартир: три просторные высокие комнаты с окнами во всю стену, с мягкими коврами и массою зимних растений в кадках и горшках. Винтовая узкая лесенка ведет вниз, в просторную кухню, в ванную и в две комнаты прислуги. Большие горницы с высокими потолками, и винтовая лестница, ведущая на башню, и большущие окна, выходящие на пустырь, — все это целый особенный мир. Большой пустырь — озеро, а солдаты — вассалы, оруженосцы и просто воины того владетельного герцога, которому служит рыцарь Трумвиль, такой бледный и молчаливый, такой сумрачный и хмурый, несмотря на свои двадцать пять лет.
Впрочем, это только игра.
Рыцарь Трумвиль — Борис Чермилов, или просто Боря, мой муж. Я его жена — тоненькая Брандегильда. Наша квартира — замок на островке, посреди большого озера, вода которого отделяет нас от целого мира. Редко перебрасывается подъемный мост на ту сторону озера, редко сообщается замок Трумвиль с остальным миром. Но мы не скучаем. Мы не одни. С нами наш друг четвероногий, в мохнатой шубе, умный, верный и преданный Мишук, который живет в пристройке на дворе, но проводит большую часть времени в комнатах. Еще с нами Галка. Это не птица, о нет! Это двуногий, но, безусловно, тоже друг. У него длинное худое тело, — белая рубаха висит на нем как на вешалке — и унылое лицо с повисшими усами. Ему двадцать два года, а выглядит он на все сорок, а то и больше порой.
Это и есть Галка, денщик, или, вернее, оруженосец рыцаря Трумвиля. Он всем в мире говорит "ваше высокоблагородие" и обо всех отзывается "их высокоблагородие", даже о Мишке. Это комический элемент замка Трумвиль, денщик Галка.
Внизу живет служанка. Ее зовут Дарья, но для замка Трумвиль это имя непоэтично, и потому мы переиначили ее в Доротею. Поодаль поместился кучер, солдат Корнелий. В конюшне две лошади, бывшие наши верховые, Бегун и Красавчик. Летом в черниговских степях мы скакали на них верхом как безумные.
Что за дивное лето провели рыцарь Трумвиль и его Брандегильда! Синие васильки, стыдливо выглядывающие из ржи, черешневая роща и цветущие короны царственных подсолнухов. И голубое небо вверху. Царство покоя, неги. Маленький белый хутор, цветущие белые яблони и черешни и ночные трели соловьев, бешеная скачка по степи, с седлами и без седел, на горячих конях по меже среди золотых полей, испещренных синими звездами васильков. Вот это я понимаю! А по вечерам длинные хороводы за околицей, и темный ласковый взор чернобровой Оксаны, и песня, сладкая, дивная песня прекрасной украинской земли.
Зачем оно минуло так быстро, это дивное лето, от которого остались теперь только золотые нити воспоминаний да прибавился ворох стихов, пламенно горячих, в честь красавицы Украины.
Глуше звучат под вечер шаги дневального на подъезде, и капли, негодные однотонные капли дождя, постукивающие о крышу здания, способны кому угодно вымотать душу.
В гостиной пылает камин. Перед камином разостлана белая шкура пушистой тибетской козы. На белом меху белая же Брандегильда, то есть я, своей собственной персоной, в каком-то фантастическом капотике из легкого белоснежного щелка, похожем на средневековое домашнее платье королев, с откидными рукавами, спадающими до пола. И густые непокорные волосы небрежно связаны тяжелым снопом за спиною. Рыцарь Трумвиль в офицерской тужурке, с золотыми пуговицами. Но это ровно ничего не значит. При чем тут внешний вид и фасон одежды? Он все-таки рыцарь Трумвиль, этот бледный Боря, и только что вернулся с охоты. На кухне замка верная Доротея ощипывает убитую им только что дичь. А сам он греется у огня.
— Ужасная погода! — говорит он, хмуря брови. — И иззяб я ужасно. Завтра, если не будет так сыро, Котик, поедем верхом.
— Тссс! Какой же я Котик, когда я Брандегильда? Вот ты всегда спугнешь настроение, испортишь игру. Вот опять, видишь, настраиваться надо, — говорю я недовольно.
