Конунг. Властитель и раб, стр. 29
Люди у катапульты пускают камень вслед стругу, но промахиваются.
Сверрир говорит:
– Мимо.
В тот же день корабли конунга Магнуса покидают Нидархольм и берут курс на юг.
Вечером люди в городе веселятся, они празднуют победу в игре. Все согласны, что конунг Сверрир поступил правильно, прогнав Магнуса.
Халльварда превозносили как доблестного мужа. Он взял на себя и последнее убийство – ибо где истинный убийца? – и получил слово конунга, что никогда не будет повешен за эти убийства, покуда Сверрир правит страной.
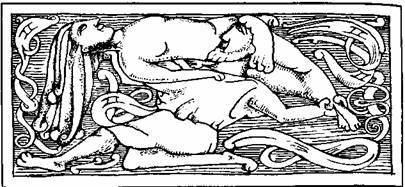
ЛЮБОВЬ
Йомфру Кристин, моей радостью и мукой в эти ночи в Рафнаберге было повествование о твоем отце конунге, о его силе и твердости, неукротимости его мощи и ясности рассудка в каждой встрече с людьми. Я также попытался – с меньшим успехом – последовать за ним в сокровенные глубины, где властитель становился рабом, и главным величием раба было преклонение перед тайнами, на которые Господь Всемогущий никогда не даст ответа. Теперь я попытаюсь показать единственной дочери конунга Норвегии ее отца во всей его нежности и любовном порыве. Прости, йомфру Кристин, мою ночную дерзость! Ты же знаешь, что легкое опьянение, украшающее такие ночи – и отравляющее серые утренние часы в Рафнаберге – придает мне храбрости глядеть в твое открытое лицо. У тебя была мать. Твой отец не любил ее. Твой отец, йомфру Кристин, любил женщину. Но это была не твоя мать.
Ее звали Астрид, тебе это известно. Она осталась с двумя сыновьями дома, в Киркьюбё, когда мы покинули родные края. Исполненная ненависти, она повернулась спиной к нашему кораблю, выходившему в море. Она не бросила даже взгляда, уходя, – ни на него, ни на меня, друга ее и Сверрира, – на меня, который выбирая между им и ею, выбрал его. Да, Астрид, твоя гордая осанка в горечи прощания, жестокая боль твоей любви, спина, плечи, затылок, развевающиеся волосы – на ветру над морем и нагорьем! Астрид, однажды я тоже любил тебя. Я тоже отыскал у тебя извечную дорогу мужчины к женщине – в один-единственный вечер.
Он не подозревал об этом. Мы оба молчали, Астрид из Киркьюбё и я. Я иногда думал: чтобы убить дружбу между конунгом и мною, она была способна в злобе выпалить жаркую и прекрасную правду прямо ему в лицо. Этим она убила бы и его любовь к себе. Поэтому смолчит она или расскажет – Астрид с родных берегов, рыжеволосая, красивая и дикая? Ходили слухи, что Сверрир однажды нес ее нагую, по нагорью от одного фьорда до другого. Но она не стала королевой Норвегии, Астрид из Киркьюбё.
Попробуй, йомфру Кристин, если сможешь, представить себе своего отца конунга, как я его видел однажды ночью. В конунговой усадьбе было темно, шел дождь, тяжелый Трёндалёгский дождь. Мы делили ложе, конунг и я, чтобы спастись от одиночества – не господин и его верный слуга, а два друга, вновь, как в далекие годы. Он думает, что я сплю. Осторожно поднимается. Я приоткрываю один глаз, потом другой. Он стоит нагой у стола, идет к окну и смотрит вверх, бродит вокруг, бормочет, я притворяюсь, что не слышу. Возвращается и залезает под одеяло. Я глубоко дышу. Но никто из нас не смыкает глаз этой ночью.
Другой раз. Я без предупреждения захожу в его маленькую келью, он вздрагивает и хочет что-то спрятать от меня. Я быстро ухожу. Он грубо зовет меня.
– Что мне прятать? – спрашивает, – письмо, разве я не вправе написать письмо, не показав тебе, Аудун?
– Конечно, конечно, вправе! – отвечаю я. Он подвигает письмо к себе, бранится и бросает его в огонь.
– Горит моя летняя радость, – говорит он. Я не отвечаю. Он спрашивает, почему я не отвечаю. Я говорю:
– Я знаю одну молодую женщину здесь, в городе, государь. Она торгует луком в лавке своего отца, мои мысли частенько уносятся к ней. Защищая ее от посягательств грубиянов, я позволил ее отцу сказать, что его дочь – моя нареченная. Но это не так! Понимаешь, государь: между ею и мною стоит нечто большее, чем меч битвы.
Между нею и мною стоит долгое скитание через все и всяческие преграды: то, что я близкий друг конунга, единственный посвященный во все его деяния, злые и благие. Между нами море отсюда до Киркьюбё, море между женщиной и мужчиной. Могу ли я вернуться к радости? Могу ли раздеть женщину, поднять ее на руки, зарыться в ее длинные волосы и сказать: «Теперь заживем в радости».? Она живет в моих снах. Быть может, и я в ее. Но с каждым восходом солнца я вновь кидаюсь в бой.
– Да, – говорит он и долго смотрит на меня. – То, что ты хочешь сказать, верно: место Астрид рядом со мной.
Он снова пишет письмо…
И вот она приезжает. Незабываемый день в моей и его жизни. Конунг послал за море корабль, чтобы привезти ее в Нидарос. Она ступает на берег с двумя сыновьями. Первые робкие признаки осени в природе: серый оттенок травы, первые красные листья в перелесках вокруг города конунга Сверрира. Она ступает на землю. И он обнимает ее.
Йомфру Кристин, дозволь поведать тебе, что и земля может жечь. Я ушел в ризницу церкви Христа, не желая видеть Астрид из Киркьюбё. Повернулся и пошел обратно. Встретил Гаута и поговорил с ним. Гаут увидел мое страдание и сказал:
– Есть только одно утешение: взывать к всемогущему Господу!
Я вновь отправился в церковь Христа, молиться, но это не помогло. Тогда я пошел навстречу ей.
Я же сказал тебе, что и земля может жечь? Я почувствовал, как она горит под моими жалкими, проклятыми башмаками, когда шел встречать и приветствовать Астрид. Полуоткрытый рот с белыми зубами, полные губы, плечи, грудь, бедра, вся пышная красота жизни. Теперь спелее, чем прежде, женщина в расцвете своей нежности, полная томления по нему, Сверриру… И здесь же стоит он, человек с далеких островов, конунг Норвегии, властитель и раб, покоритель своих врагов, руководствующийся холодным рассудком – и только им. Но сейчас нет всего этого – есть лишь одно: любовь к ней.
Йомфру Кристин, я сказал тебе, что и земля может жечь? Я пошел купить луковицу, повернулся, подошел опять к ним, приподнял сыновей, достал из мешка за поясом берестяной туесок с медом, который всегда ношу с собой. Поднял сыновей и, забыв о них, смотрел на нее – она улыбнулась в знак благодарности. Я ушел от них и узнал, что земля тоже может жечь.
– Завтра будет лучше, – громко сказал я самому себе. Но не верил этому.
Ночь над конунговой усадьбой. Я иду по городу, ночь над конунговой усадьбой, я знаю, что земля тоже может жечь. Небо на севере рдеет, солнечное колесо собирает силы для нового дня, пылают белые звезды – и он. Я знаю это: конунг Норвегии теперь пылает. Тот, кого я видел бродящего нагим между окном и постелью, – и она, которую я лишь однажды видел пылающей.
На следующий день лучше.
Теперь они оба смеются не так, как вчера, конунг Сверрир и его молодая жена. Слухи бурным потоком разносятся по Нидаросу и всей стране: конунг привез свою жену! Народ собирается и хочет видеть ее. Она выходит, показываясь. Выбегают мальчики и начинают играть, один падает, из ноздрей хлещет кровь. Пятнадцать служанок устремляются к нему, стражник бросает оружие и спешит принести мальчику воды. Встают на дыбы две лошади, одна вырывается. Конунг смеется и гладит Астрид по щеке: сегодня она совсем другая женщина, нежели вчера. И я в своей нищете стал богаче.
Последнее ты не поймешь, йомфру Кристин, я тоже не понимаю этого вполне, но это так. Не могу назвать это ни уверенностью нищеты, дающей спокойствие и поэтому силу, ни восторгом самобичевания и гнева. Нет-нет! Но я стал богаче, хотя и не существует этому объяснения или ответа. Посреди беспросветного одиночества я сумел повидаться с ними обоими, как друг с друзьями, и от души поблагодарить за приглашение разделить с ними вечернюю трапезу.
Йомфру Кристин, слышала ли ты, чтобы кто-то выражал свою радость игрой на обломке расколовшегося колокола? Я слышал. как-то раз с колокольни одной из церквей в Нидаросе сорвался колокол. Прошел слух, что дьявол в злобе своей возник возле колокола и заявил спешащим мимо: «Отныне он мой…» Колокол лежал, прорастая травой. Но в первую ночь Астрид в Нидаросе мимо него прошел пьяный. Унас, кузнец и гребенщик, долго утверждавший, что он отец твоего отца, неуважаемый и презираемый большинством, изгнанный конунгом, – он вновь в городе. В радости, которая придала ему отваги, он устремился к полузаросшему колоколу, отпихнул дьявола, если он там стоял, – и взял себе, уходя, осколок разбитого гласа Господня. Он играл на нем.
