В неосвещенной школе, стр. 4
— Что вам, господин Мимоходенко?
Еще по дороге я обдумал, как короче и яснее изложить суть дела. Инспектор слушал, стоя одним боком ко мне, а другим к дивану, и на лице его были та же скука и та же досада, что и в прошлый раз.
— Нет, нет, господин Мимоходенко, никакого второго отделения. Бог знает, чему их обучали в частном порядке. Школа — учреждение государственное.
— Так что же с ними делать, господин инспектор? Ведь некоторые из них даже для третьего отделения вполне пригодны.
— Не имеет значения. Все должны обучаться по установленным государственным программам. До свидания, господин Мимоходенко, до свидания.
Так же вяло сунул мне руку, так же уткнулся в книгу на ходу к дивану, только на обложке ее стояло уже не «Ключи счастья», а «Санин» Арцыбашева.
Я вернулся в деревню и принялся обучать грамоте всех ребят подряд по государственной программе для первого отделения.
И вот что получилось.
Когда я спрашивал: «Дети, «у» и «с» — что будет?» — то, прежде чем неграмотные успевали в уме соединить в слово эти два звука, грамотные страшными голосами кричали «у-у-у-с-с-с!» «Дети, разделите слово «ус» на звуки». И, прежде чем неграмотные успевали сделать это мысленно, все в классной комнате начинало вибрировать от протяжного и оглушающего «у-у-у-у-у-у!», подобного заводскому гудку. Гудение умолкало, чтоб уступить место разбойничьему свисту: «с-с-с-с!» Никакие уговоры на грамотных не действовали: им было скучно, и они развлекались, как умели, не давая мне никакой возможности обучать неграмотных. В отчаянии я убегал в свою комнату и там, упав на кровать, затыкал пальцами уши, чтобы не слышать, как беснуется класс.
В ПОИСКАХ ОПЫТА
В одну из бессонных ночей, когда я в сотый раз спрашивал себя, неужели все дело в тщедушности моей фигуры, мне пришла мысль посетить какую-нибудь сельскую школу, посмотреть, как ведет занятия тамошний учитель, посоветоваться с ним. Едва забрезжил рассвет, я вывесил на дверях школы объявление, что занятий в этот день не будет, вышел на большой шлях и с попутной подводой отправился в волостную деревню Бацановку.
Вез меня наш же, новосергеевский, крестьянин — человечище под стать Илье Муромцу. Перед ним я. наверно, был чем-то вроде котенка перед бульдогом. Он долго молчал, потом хриплым басом спросил:
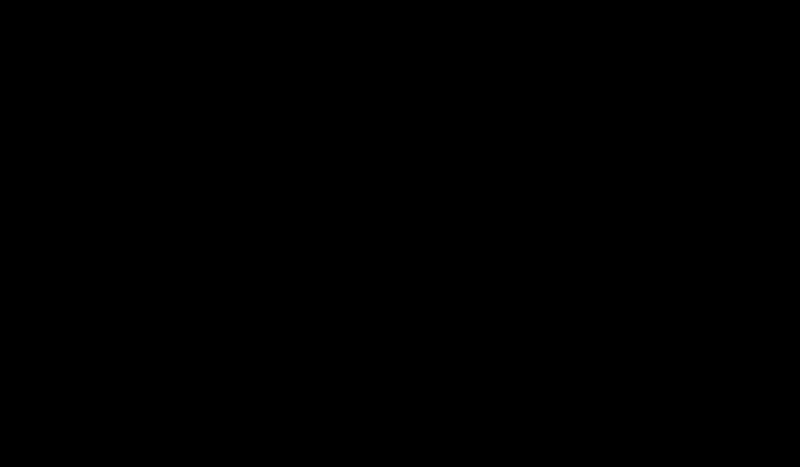
— А зачем это вы моего Семку рогульки писать учите? Он же грамотный.
— А кто этот Семка?
— Ну, Надгаевский, Семен Надгаевский.
— А, Семен Панкратьевич! Есть такой. Как это я не догадался! Он весь в вас: богатырь. Значит, вы — Панкрат… Как по батюшке?
— Гаврилыч.
— Да, Панкрат Гаврилыч, это верно: Семену рогульки ни к чему. Но такое распоряжение инспектора народных училищ: всех посадить в первое отделение.
— Он тронутый, ваш инспектор? Всех под одну гребенку?
— Он чиновник, статский советник, а высокие чиновники почти все на один манер. Они боятся, как бы чего не вышло, вот и стригут всех под одну гребенку.
Надгаевский повернул широкое бородатое лицо и с доброжелательным любопытством оглядел меня.
— Это ж какой будет чин, статский советник, если повернуть на военный лад?
— Это будет вот что, — показал я дулю. — Между генералом и полковником, чуть пониже генерала, но выше полковника.
Панкрату Гавриловичу мое образное объяснение, вило, понравилось: он так оглушающе засмеялся, что лошадь прянула ушами. Но потом лицо его затуманилось и он в раздумье сказал:
— От чиновников, конечно, добра не жди. Но бывает и так, что и чина на человеке нету никакого, а жмет он крепче мельничного жернова. В порошок может истереть другого.
Теперь уж я оглядел своего собеседника с головы до ног. О ком он так говорит? Ведь не о себе же? В моем представлении большие, физически сильные люди обычно добродушны, отзывчивы на чужое горе. Таким был, например, Петр, к которому я в детстве привязался всем сердцем. Только Петр был стройный, мускулистый, а Панкрат Гаврилович — мясистый, громоздкий, этакий борец-тяжеловес.
— Ну, вам бояться не приходится, — сказал я смеясь. — Вы, наверно, одной рукой крыло ветряка остановите.
— Крыло ветряка остановлю, а вот с этой старой собакой, Наумом Перегуденко, и сам черт не справится.
— Наум Перегуденко? Это не тот ли старик с помятой бородой, против которого никто на сходе слова сказать не смеет?
— А, вы, значит, уже заметили?
— Он кто у вас, кулак, что ли?
— Кулак или куркуль, как ни скажете — все правильно будет. Одним словом, мироед.
Некоторое время я молчал, не решаясь высказать свою мысль. Но потом все-таки сказал:
— Лошадь у вас добрая, дроги, упряжь — все добротное, да и сами вы одеты не бедно. Извините, я даже подумал…
Тут я слегка замялся.
— Что подумали? — усмехнулся он. — Не куркуль ли я тоже?
— Во всяком случае, не бедняк. Правда, дома вашего я не видел, но все же, мне думается, что вы из крепких. А если так, то куркуль Перегуденко вам не страшен: куркули, как я понимаю, больше бедняков да батраков жмут.
— Рассуждаете вы правильно, но… — Лицо Надгаевского потемнело. — Но в жизни дела по-разному складываются. Давайте лучше я вам расскажу, как у меня получилось, что я вроде и не бедняк — это вы правильно подметили — и вроде стою уже одной ногой рядом с Куприяновым Тимохой. Тимоху нашего вы знаете? Нет? Все хозяйство у него похилилось. Так вот, того гляди, я как этот Тимоха-незадачник, рухну.
Дорога, по которой мы ехали, тянулась сплошным черным массивом, слева, сквозь редкий туман, видна была серая скучная пелена моря, справа уходила в туманную даль побуревшая степь, и то, что рассказал Панкрат Гаврилович, казалось мне таким же безнадежным и унылым, как и окружавшая нас природа. А рассказал он о себе вот что.
Жил он раньше в слободе Лукьяновке, жил хотя не богато, но и ни на кого не батрачил: свой надел, своя лошадь, корова. Когда взяли силу столыпинские законы о свободном выходе из общины, своего надела не продал, но и чужого не прикупил. Перегуденко в то время имел уже маслобойку и зашибал хорошую деньгу. А тут жадность его до того разгорелась, что принялся он скупать надел за наделом — все у своих же односельчан-незаможников. Прошло два-три года, и стал он озираться, где бы еще земли прикупить. Тем временем прошел слух, что помещик Алчаковский хочет свои земли распродать и остаться навсегда в Петербурге. Перегуденко потолковал с самыми богатыми односельчанами и отправился в столицу. Задача сперва была такая, чтобы купить у Алчаковского только часть земли, для богатеев, но помещик с распродажей по частям возиться не хотел, и богатеи стали втягивать в это дело других односельчан, победнее, чтоб купить всю землю целиком через банк. Кому было не под силу, тем обещали по-доброму, по-соседски помощь оказать. Втянули и Панкрата Гавриловича. Многие в то время продали свои наделы и переселились на новые земли. Богатеи действительно и построиться им помогли, и помогли уплатить первые взносы за землю. Помогать помогали, а брать расписки да векселя не забывали. И теперь дело повернулось так, что у иного хозяина и дом с железной крышей, и лошадь добрая в конюшне, а хоть в петлю лезь: надо в банк очередные взносы за землю платить и богатею долг возвращать. Не внесешь в банк — с земли сгонят, не вернешь долг богатею — он и лошадь отберет, и на все хозяйство руку наложит, и заставит работать на себя. Так вот и с Тимохой случилось: был вроде самостоятельный хозяин, а теперь день и ночь батрачит на Перегуденко. Так и с ним, Панкратом Гавриловичем, может случиться. И даже наверное случится. Недаром Перегуденко все чаще и чаще оглядывает его лошадь и всякие в ней недочеты выискивает: видно, заранее цену на нее сбавляет.
— Поверите, он мне по ночам стал сниться, Перегуденко этот. В одной руке будто уздечку держит, а в другой — ключ от моей конюшни. Жинка жалуется, что я во сне мычу. Замычишь тут!.. — с тоскливой злобой закончил свой рассказ Панкрат Гаврилович и без всякой нужды стегнул лошадь.
